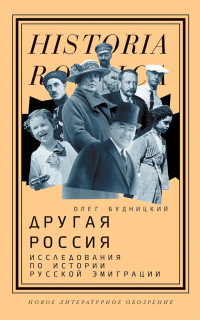Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Тим Харт представляет подробное исследование образов и концепций скорости, которые пронизывали русскую модернистскую поэзию, изобразительное искусство и кино. Его исследование показывает, что на представления о скорости и динамизме опирался широкий спектр экспериментальных художественных тенденций первой четверти XIX века; однако именно это стремление к скорости после революции 1917 года парадоксальным образом и ускорило гибель всего движения.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Тим Харт»: