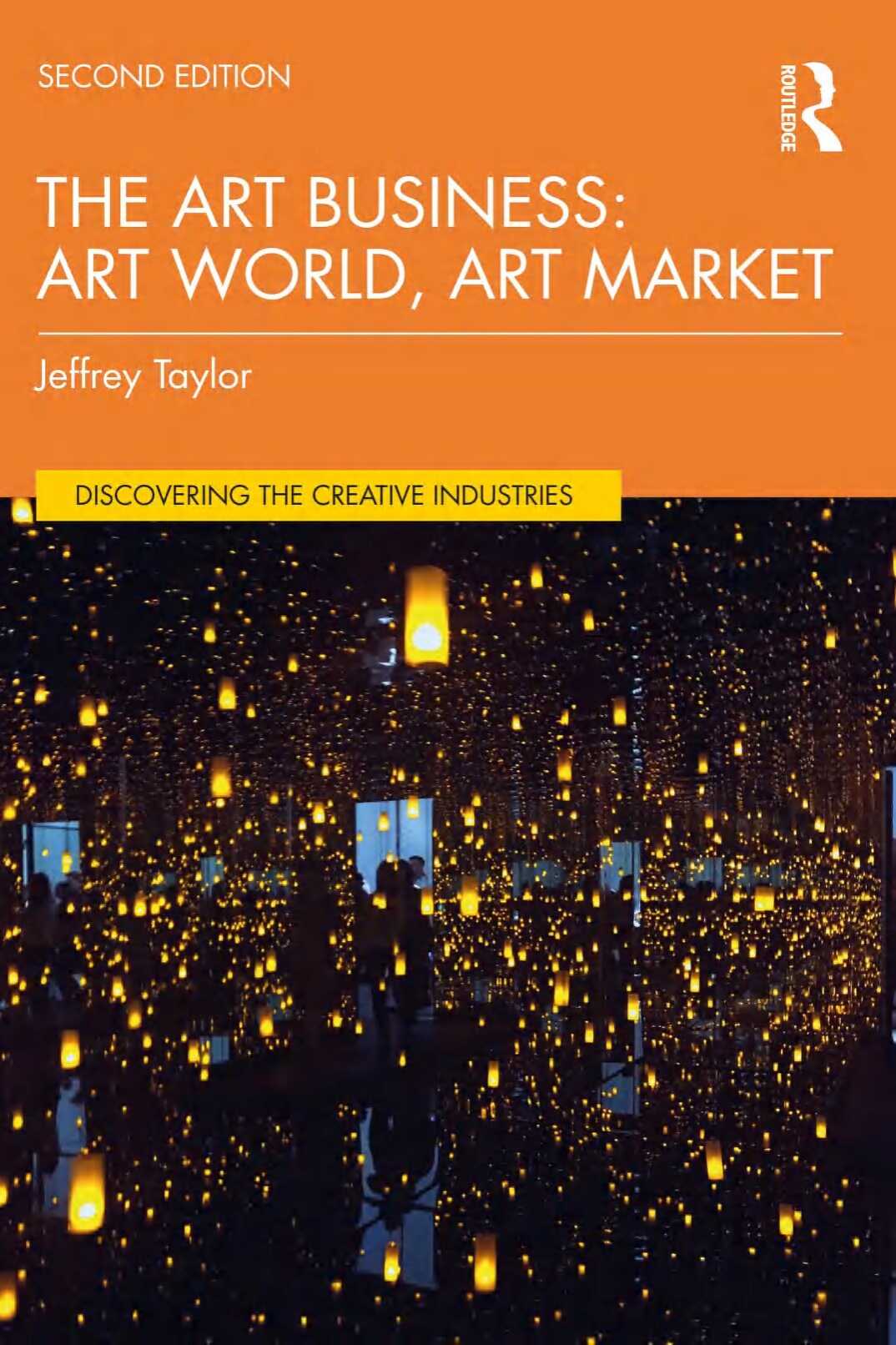Шрифт:
Закладка:
Худи Розен – обычный подросток. Он учится в школе, играет в баскетбол, общается с друзьями и заботится о своих сестрах. Жизнь в ортодоксальной еврейской семье на первый взгляд ничем не отличается от любой другой… пока Худи не встречает Анну-Мари.Она – дочь мэра города Трегарон, куда недавно переехала община Худи. Независимая и открытая, Анна-Мари переворачивает его мир с ног на голову. Худи не в силах сопротивляться притяжению, рядом с ней он начинает по-новому смотреть на привычный уклад и сам становится смелее.Однако обстановка в городе накаляется, ведь мэр решительно настроена изгнать евреев из Трегарона. Из-за дружбы с Анной-Мари от Худи отворачиваются близкие, и перед ним встает выбор: что важнее – чувства или семья?Ребе Фридман, как и ребе Мориц, рассуждал о моем «положении» так, будто я подхватил какую-то заразу, страшную болезнь, которая может передаться моим одноклассникам воздушно-капельным путем. Если меня не изолировать, дело может кончиться эпидемией. И тогда все мы будем разгуливать по кампусу в шортах и топиках, под ручку с шиксами в бикини, и слушать непотребную поп-музыку на новеньких смартфонах.Рейтинги и премииЛауреат премии имени Уильяма Морриса за лучшую первую книгу автора, написанную для подростков.Если я буду с ней, я перестану быть частью своей общины, поскольку она не еврейка. Но единоверцы, иешива – это вся моя жизнь, все, кого я вообще знаю.Зачем читать• Посмотреть на мир глазами подростка, который привык к ограничениям, и даже не догадывается, какой может быть жизнь вне его общины;• Поразмышлять об условностях, традициях и правилах, влияющих на наше мировоззрение;• Погрузиться в историю двух совершенно разных молодых людей, которые сталкиваются с непониманием близких и общества, и почувствовать вместе с ними смелость преодолеть преграды.• Смысл совершенно не обязательно должен возникать из чужого учения. Его можно открыть и в самом себе.Для кого• Остроумная и важная книга для подростков 16+ и взрослых;• Для поклонников книг «Дарий великий не в порядке», «Избранник», «В конце они оба умрут»;• Для поклонников сериалов «Неортодоксальная», «Элита».