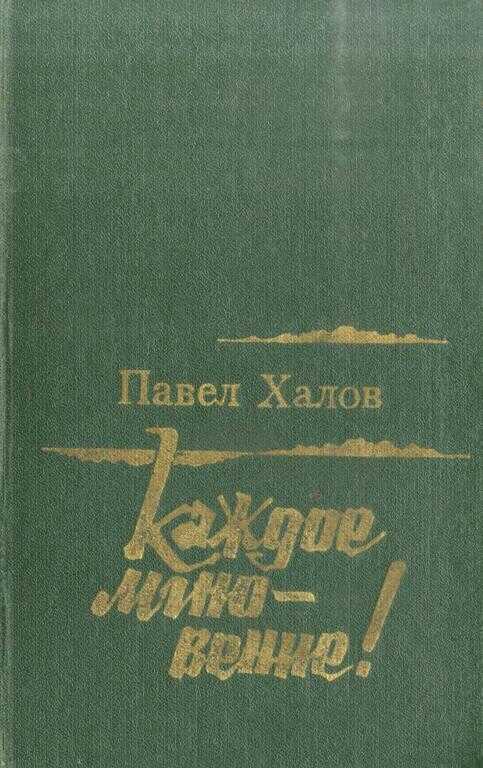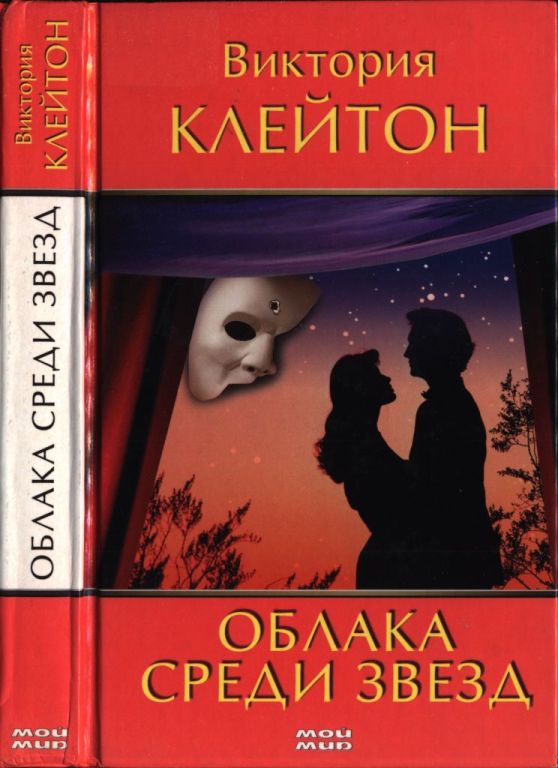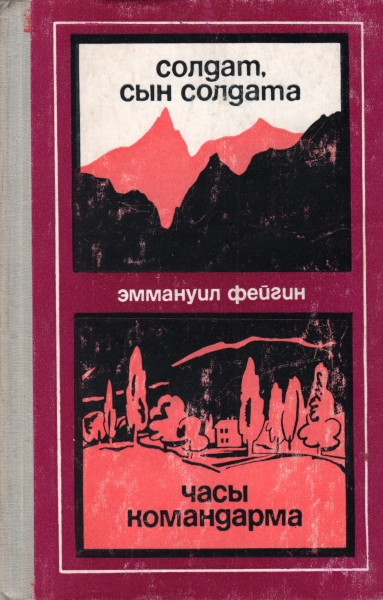Шрифт:
Закладка:
— Вот так! Хрен моржовый! А то — никто ничего и нигде никак! Понял?
— Понял, — сказал Коршак, глядя в пронзительные глаза стармеха. — Я все понял, Дмитрич! — повторил несколько мгновений спустя. И это «хрен моржовый» тоже не имело конкретного адреса. Но здесь впервые на Коршака накатило. Он даже подумал сначала, что заболел вот так неожиданно, как там, в рубке, несколько часов назад, когда прочитал капитан ему радиограмму. Тоска, физически ощутимая, перехватила горло. Сами собой стиснулись челюсти. И опять сделалось маленьким и твердым сердце, и остановилось дыхание. Да, именно остановилось — он не дышал, он уже не дышал почти четверть минуты — так ему показалось, и опять все то, что он видел за мгновение до этого — и машину, и деда, и воду под ногами — все это покатилось куда-то, удаляясь, но тьма совсем не захлопнулась — осталось далеко впереди крошечное, ослепительное сверкающее светом, как электросварка, пятно. И он судорожно вздохнул — и сердце мгновенно рвануло, и пошло, пошло, гоня к голове, к мозгу, к щекам готовую уже было остановиться и похолодеть кровь. Он вспотел и ослаб. Но дед не видел ничего: это длилось недолго, а дед стоял у щита, спиной к Коршаку; и, приходя в себя, Коршак понял: это была тоска одиночества. Коршак не помнил, было ли ему тогда страшно, скорее всего было. Но он удержался где-то на той самой последней грани, за которой уже не существует ни дружбы, ни солидарности, ни любви. Он твердо помнил, что перейти эту грань среди прочих причин ему не позволила и та, что он все время думал, как одиноко, как страшно, как тоскливо теперь Сергеичу, как непоправимо время и расстояние, отделявшее их друг от друга…
Позвонили с мостика. И капитан спросил:
— Ну, как вы там, Дмитрич?
— Как у Христа за пазухой, мастер! — прокричал дед. — Вроде бы чуть меньше штивает?
— Это кажется, Дмитрич. Привыкли…
— Да? — с издевкой спросил дед и вдруг совсем другим, человеческим тоном добавил: — Дойдем, мастер. Обязательно дойдем. За машину не бойся.
— Хорошо, — сказал Феликс сверху. — Спасибо.
— Ла-а-адно. Рули себе…
…В бухту «Память Крыма» входила по тихой воде. Стук дизеля был слышен отчетливо и далеко, он долго жил в скалах, которые даже на большом расстоянии казались огромными, они нависали над зеленой водой своими угрюмыми каменными боками, в расщелинах и складках мерцал снег — теперь он уже лег прочно, до следующего лета, до веселых июньских штормов. Дряблая подвижная мгла рвала рыхлое тело об их небритые заснеженные вершины. И было странно, что мгла эта — остатки тайфуна — не ухудшила видимости по горизонту. Она только накрывала море словно пологом, и траулер средним ходом, не торопясь, шел под этой мглой. И на самом СРТ было тихо — команда спала. Дед, сдав машину второму механику и мотористу, на которых старался не глядеть все это время, переодевшись во все сухое, натянув на иззябшие, почти отказывавшие ему ноги какие-то вяленые чуни, кутаясь в полушубок, с непокрытой лысой головой стоял на полубаке — у самого борта; в черном окне рубки — там опустили стекло — маячил невозмутимо Феликс в своем свитере. На руле был третий штурман, которого Коршак за все время рейса так и не разглядел, не запомнил — не то душа не приняла, не то оттого, что вахты ее совпадали.
Коршак, тоже надев полушубок и теплые сапоги, выбрался на верхний мостик и сел прямо на палубу, прислонясь спиной к тумбе главного компаса, укутанного в какой-то негнущийся, железный брезент. Отсюда были видны тротуары в городе и мостовые — они весело, по-майски отсвечивал влагой, отражались в окнах и на стенах домов, как это бывает, когда отражаются блики на бортах кораблей в порту. И все это было видно и с палубы.
Траулер совсем сбросил ход и катился теперь, чуть огрузнув, как детский кораблик, подгоняемый неощутимым для людей движением воздуха, и перед ним, перед его промятым, но еще прочным форштевнем двигался тяжелый упругий валик воды.
«Память Крыма» ошвартовалась у причала судоверфи. На бетоне возле двух черных «Волг» стояли руководители управления в сверкающей всеми положенными регалиями морской форме. От этого блеска Коршак уже давно отвык. Да и все они на траулере за четыре месяца плавания отвыкли. Штатские адмиралы поднялись на палубу, и Феликс неловко, — он был без формы и без фуражки, — склонив как-то набок свою в жестких кудрях голову, начал докладывать о рейсе. Но старший из начальников не дал ему договорить, раскрыл руки и обнял его, трижды прислонясь к его небритой острой скуле своим матово-белым дородным лицом.
— От имени руководства нашего краснознаменного управления, по личному поручению товарища заместителя министра — Иван Федорович находится ныне здесь — объявляю вам, капитан, и всему экипажу вверенного вам судна благодарность за выдержку и проявленное мужество в борьбе со стихией. И одновременно поздравляю вас и экипаж с выполнением годового плана…
А родных — и жен, и тех, кто должен был бы тоже встретить экипаж «Памяти Крыма» — еще не было. Начальство скорее добралось сюда на легковых машинах, чем они на рейсовом автобусе. И ребята во время этой церемонии нетерпеливо поглядывали с борта, с верхнего мостика на петлю шоссе, видную отсюда. И от этого встреча не получилась торжественной, и начальство, помявшись, выслушав доклад деда о состоянии машины, уехало, и только тогда на шоссе появился медленно ползущий автобусик.
— Я должен сказать вам, капитан, — проговорил Коршак, трогая локоть Феликса. — Я должен сказать вам, что ухожу с траулера. Ремонт будет делать судоверфь, машины в порядке, в электричестве я несведущ. И вам нетрудно будет найти замену…
— Я тебя понимаю. Погуляй, Коршак, и возвращайся, если не получится то, что ты затеял.
— Спасибо, капитан, — сказал Коршак. — Никогда и ничего я не забуду. Вы убедитесь в этом.
Уже у самой проходной порта Коршака догнал третий штурман.
— Мастер просил принять вот это, — сказал