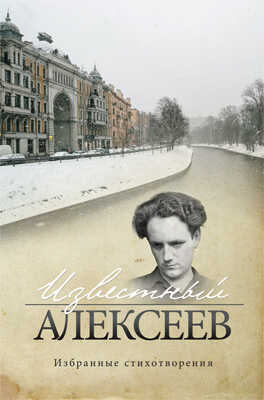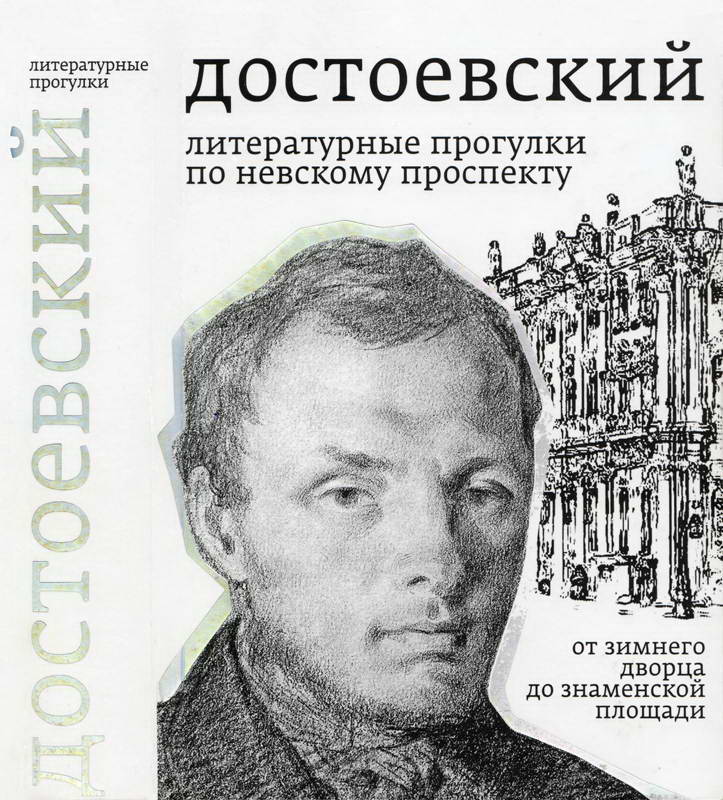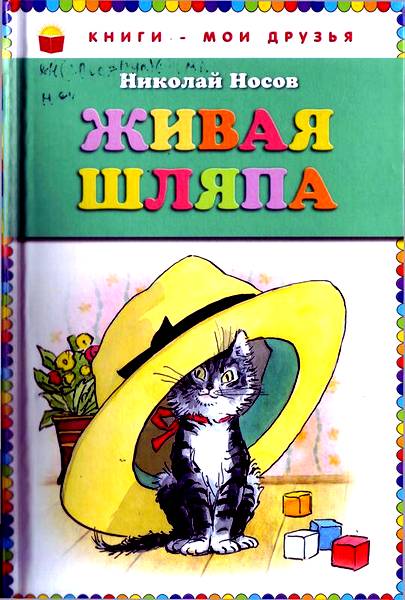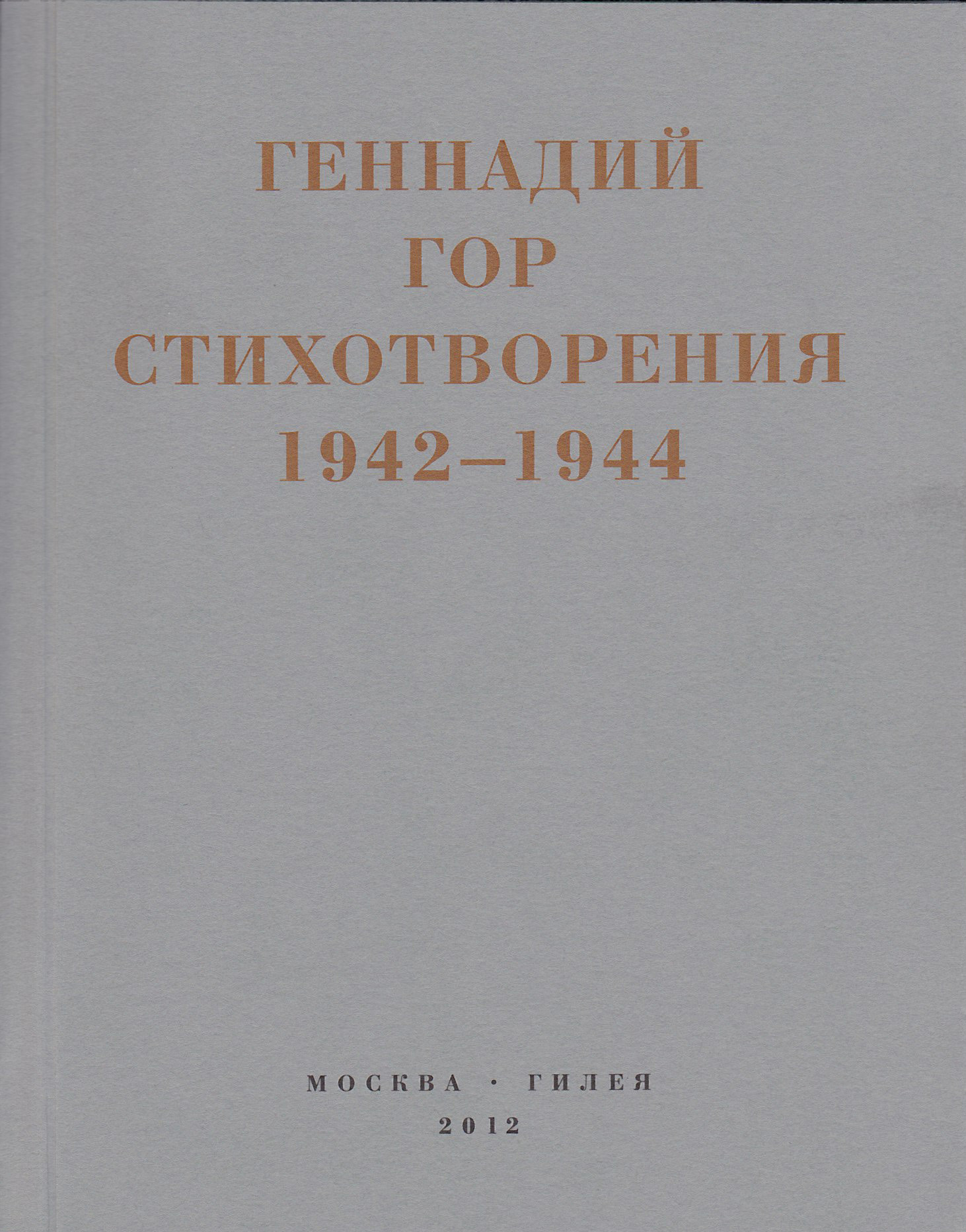Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Завершающий том собрания сочинений Геннадия Алексеева (1932—1987) – культового автора середины XX в., основоположника российского верлибра, поэта, прозаика, художника.В этом томе в хронологическом порядке собраны стихи из всех опубликованных при жизни автора книг и практически все журнальные публикации, не вошедшие впоследствии в книги. Всего прижизненных книг было четыре, три из них вышли в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель», а одна в Москве, в «Современнике». Посмертная книга была издана в 1991 году Майей Ллексеевой в Ленинграде. В том в качестве послесловия вошла статья Бориса Романова, редактора книги Алексеева «Обычный час».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Геннадий Иванович Алексеев»: