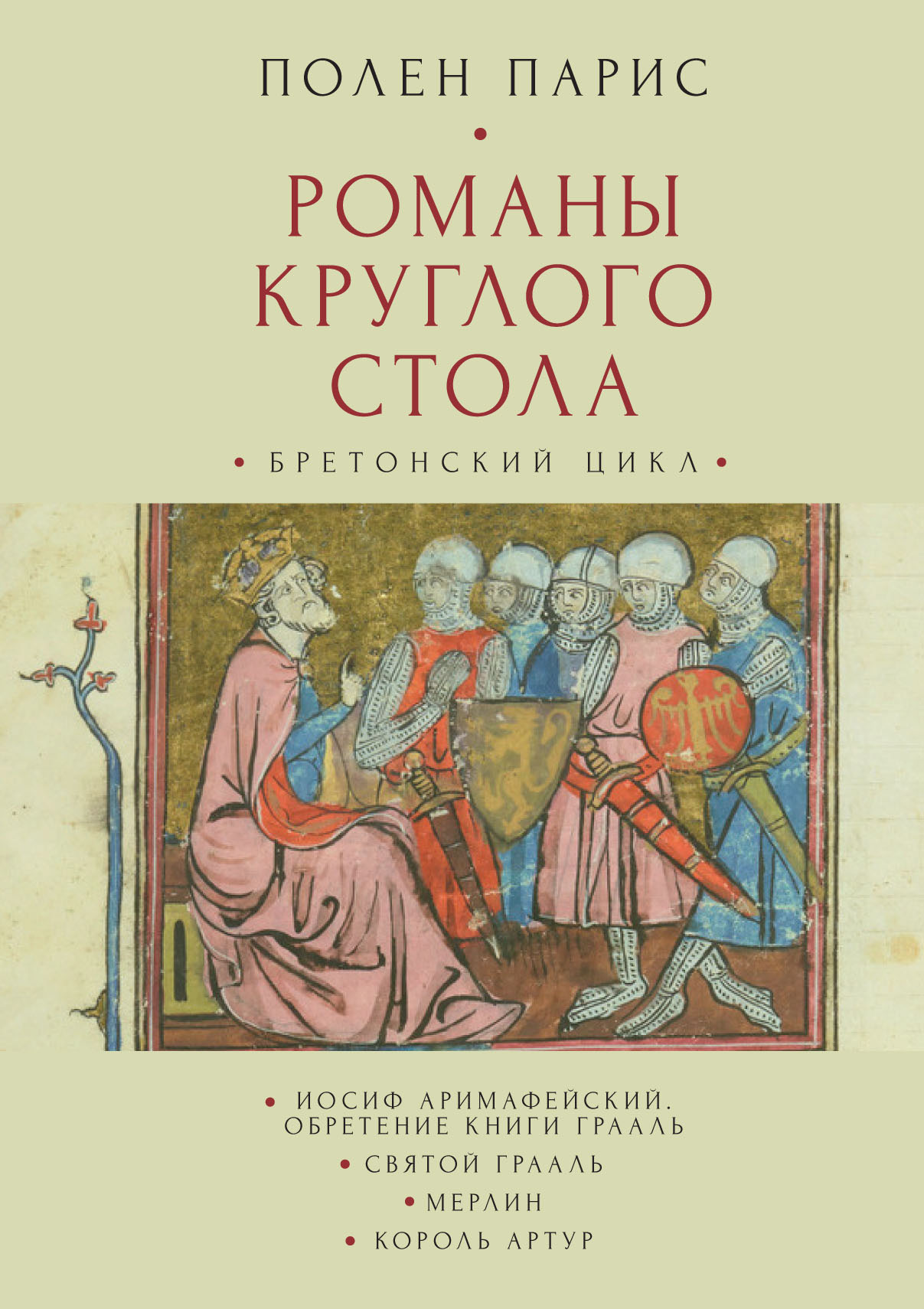Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Выживальщик Джеймс Хиллкоут готовится к концу света – строит убежище в подвале своего лондонского дома и делает запасы. Однако со временем подвал начинает казаться ему ненадежным, и после размолвки с женой он без ее ведома увозит восьмилетнюю дочь Пегги в заброшенную хижину посреди глухого леса где-то в Германии. Так начинается история их выживания. История последних двух людей на земле, как думает Пегги, – ведь отец убедил ее, что во всем мире больше никого не осталось…Девять лет спустя Пегги возвращается домой, к матери, но попытки выяснить, что произошло в лесу, приводят к новым загадкам.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Клэр Фуллер»: