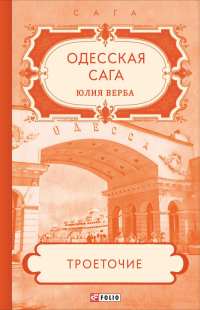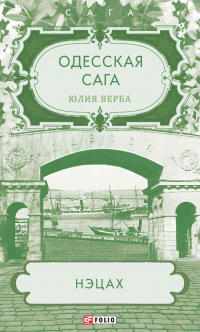Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В застойных 1970–80-х будет много неожиданных крутых поворотов в жизни каждой из постаревших сестер Беззуб и их уже совсем взрослых детей. А в неизменных декорациях двора на Мельницкой, 8, как и всегда, будут «делать базар», «сохнуть белье» и рожать новые слухи и новых жителей.В романе «Троеточие…» – заключительной, четвертой части «Одесской саги», – казалось бы, расставлены все точки в истории многодетной семьи Ивана и Фиры-Иры Беззуб, которые еще в начале ХХ века поселились здесь с мыслью, что это временное жилье. Но, как часто бывает, точки превращаются в многоточие – ведь двери на Молдаванке распахиваются настежь не только в лето, но и в новую жизнь…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юлия Артюхович (Верба)»: