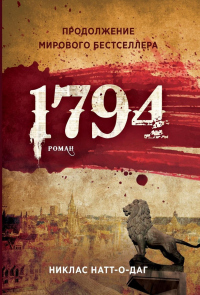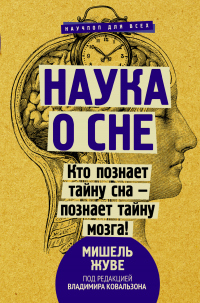Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Долгожданное продолжение дебютного романа шведского писателя Никласа Натт-о-Дага «1793», покорившего Швецию, а затем и весь мир! Зло не покинуло Стокгольм Молодая девушка зверски убита в брачную ночь. В страшном преступлении подозревают ее мужа-дворянина. Однако мать несчастной не верит в обвинения и просит о помощи однорукого Карделя, рядового полиции нравов. Расследование возвращает его обратно в темную бездну Стокгольма, и он обнаруживает, что город еще более опасен, чем когда бы то ни было. Окунитесь в мрачный мир XVIII века, где сплелись жестокость и милосердие, унижения и гордость, безобразие и красота.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Никлас Натт-о-Даг»: