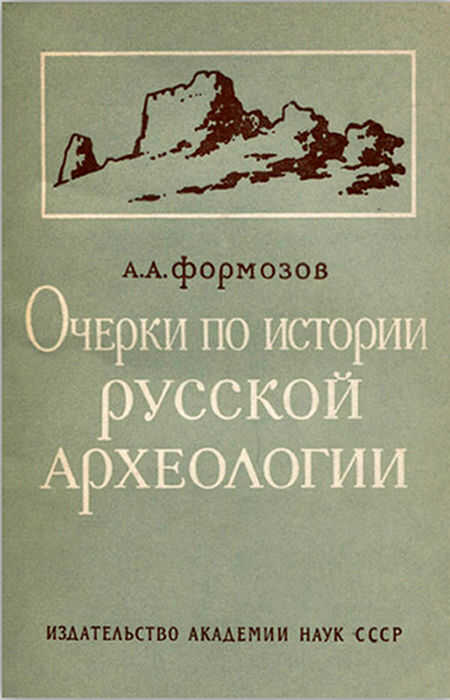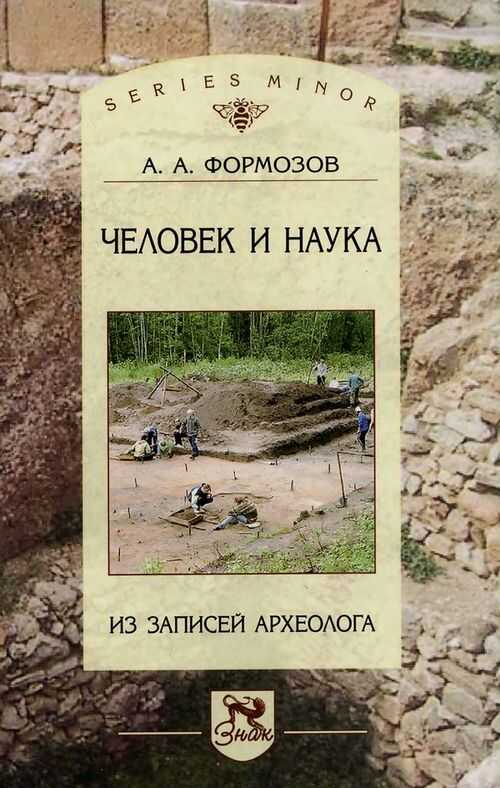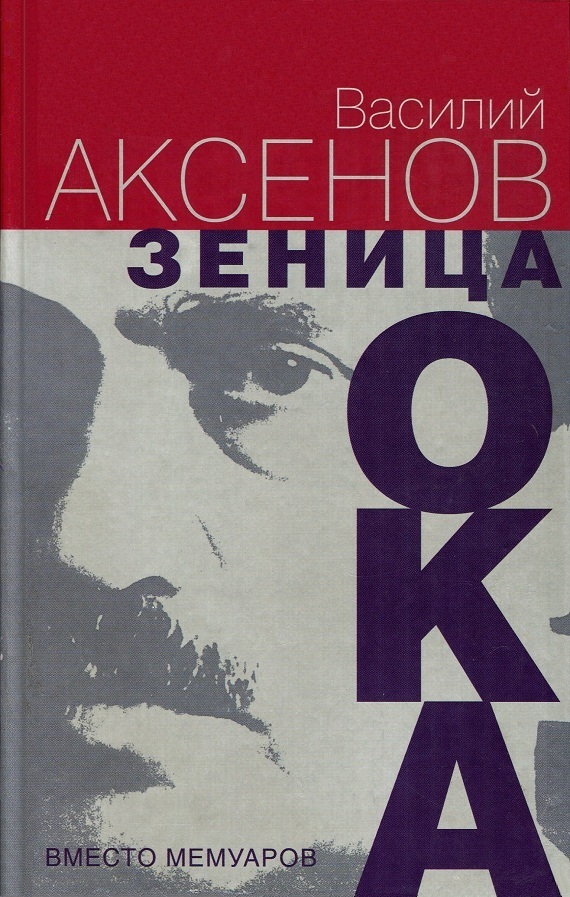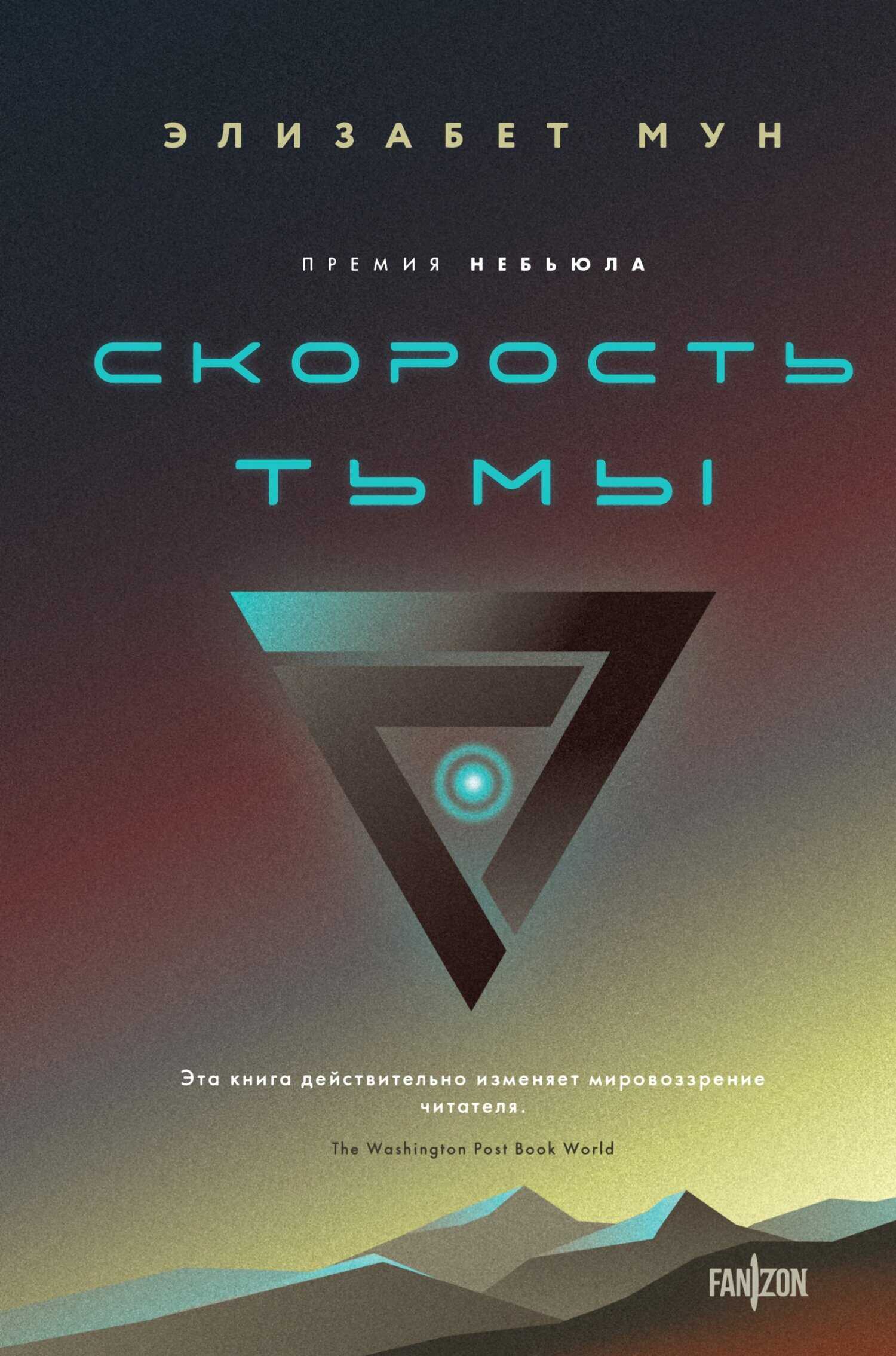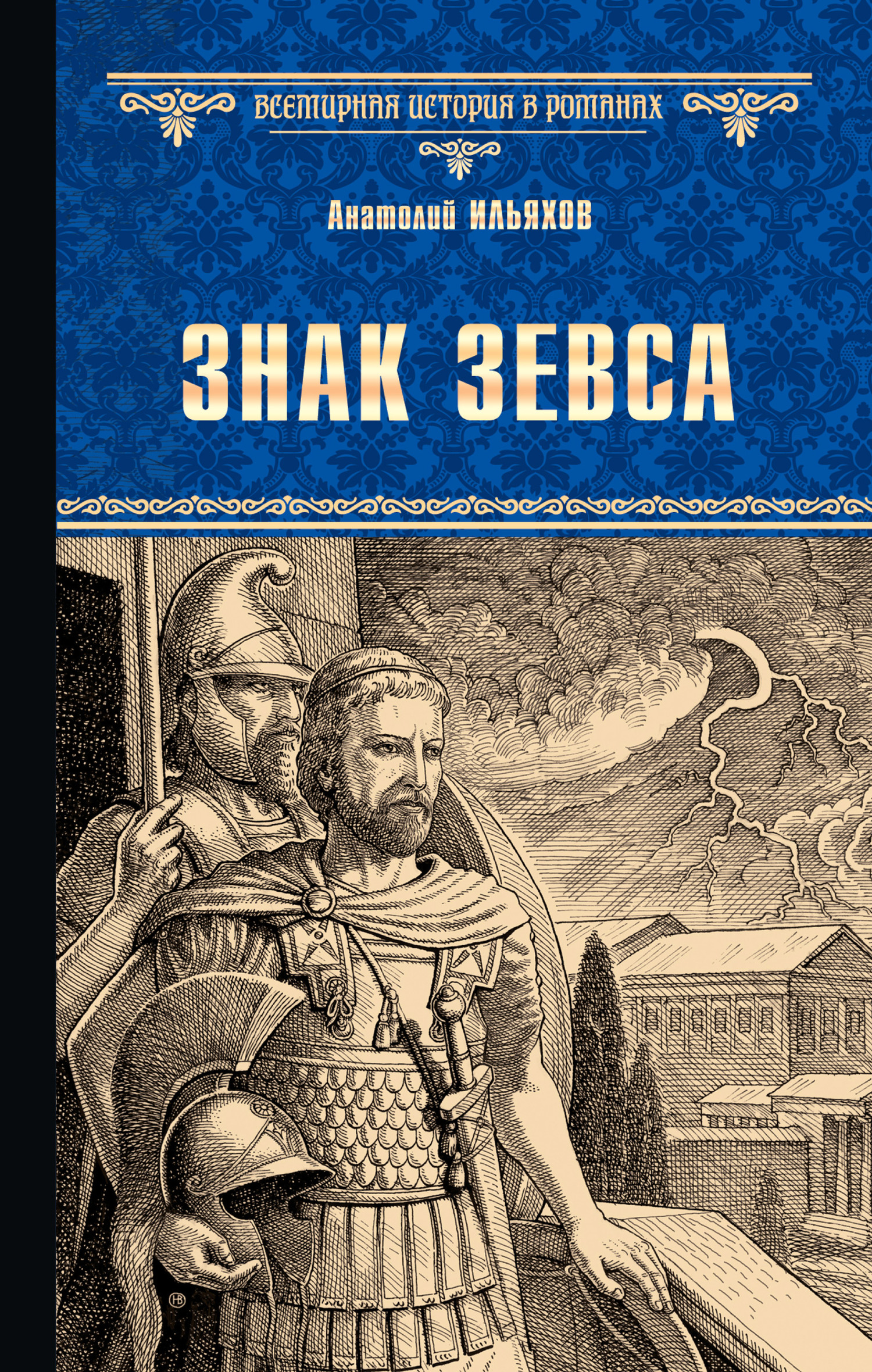Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Александр Александрович Формозов родился в 1928 г. в Москве. В 1951 г. окончил исторический факультет Московского университета. Более 50 лет проработал в Институте археологии Российской академии наук. Опубликовал 320 работ, в том числе 26 книг. Занимался первобытной археологией, первобытным искусством, историей науки. В данной книге автор хочет поделиться своими соображениями о том, как следует и как не следует работать в области гуманитарных наук — археологии, истории, филологии, искусствоведения.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Александрович Формозов»: