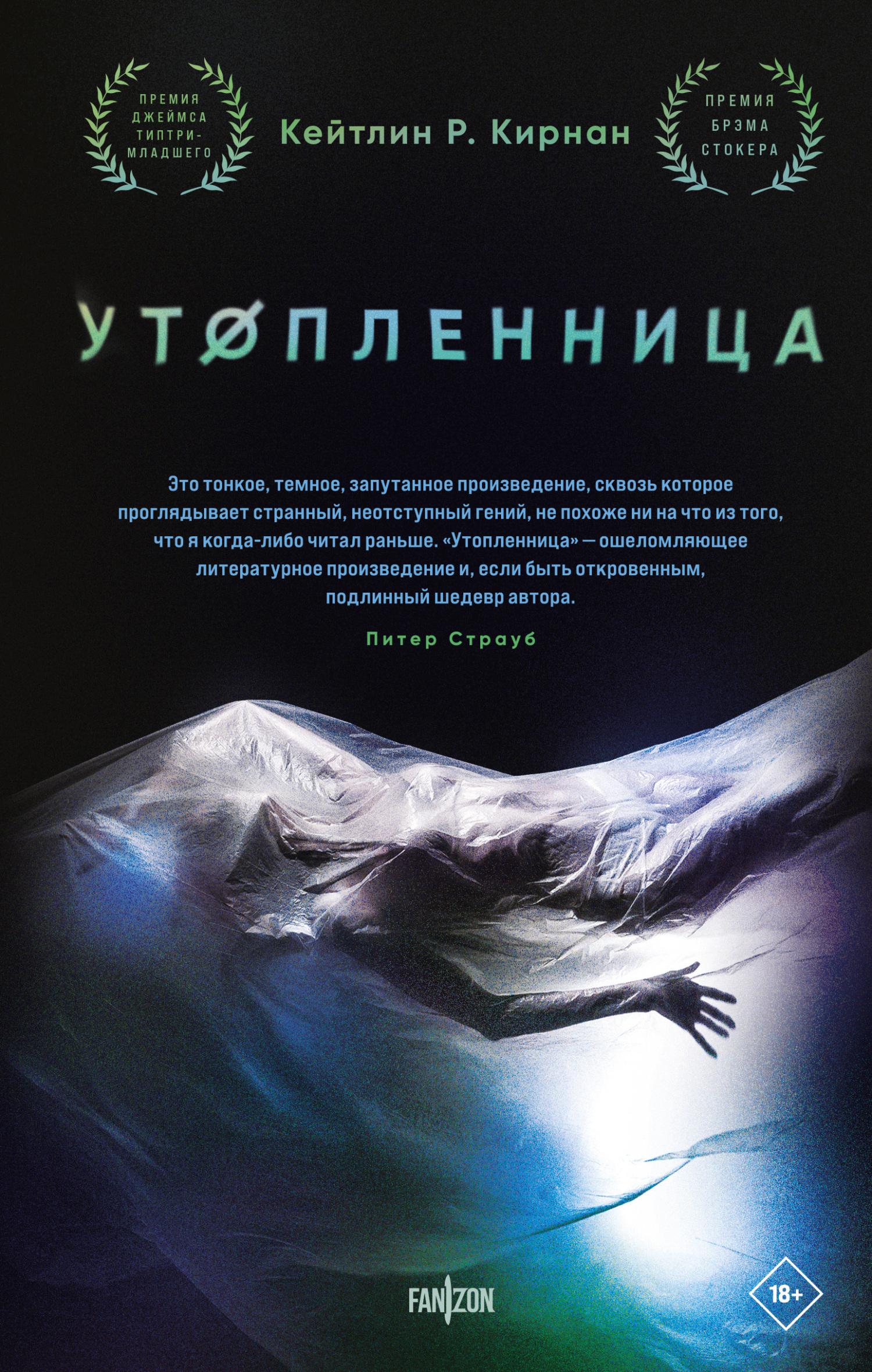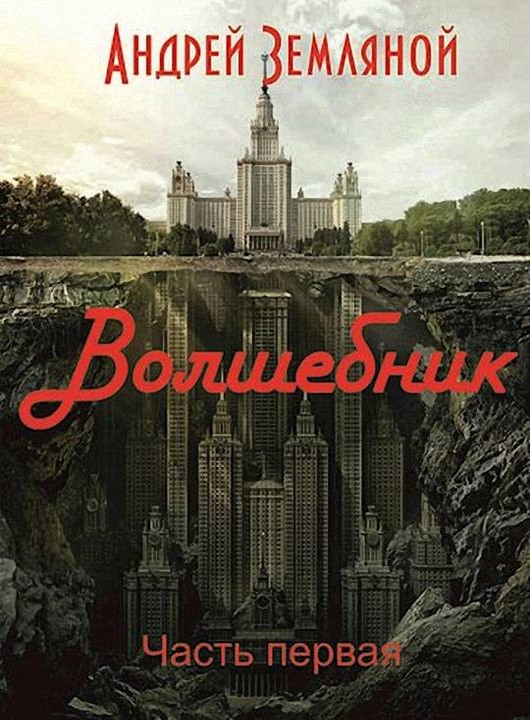Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Дорогой читатель. Сей труд не имеет цели тебя учить, агитировать или воспитывать. Это просто возможность на время отключиться от динамичной реальности и нырнуть в картинки историй, в которых все имена изменены, но совпадения не случайны.Содержит нецензурную брань.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Золотухин»: