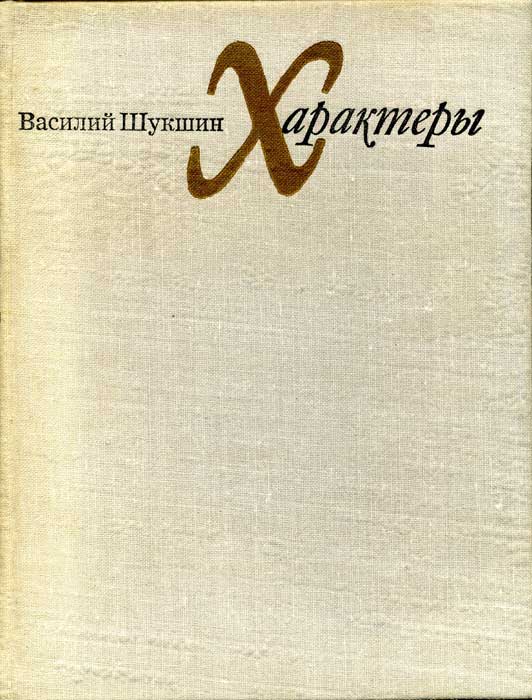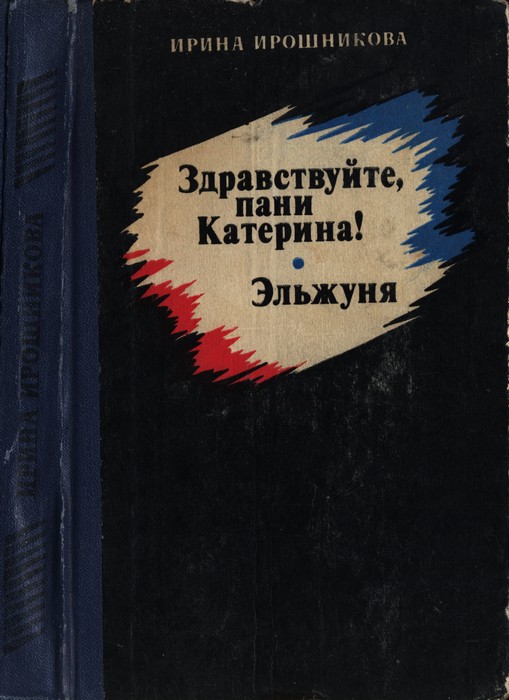Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется „душой народа“», – сказал М. Горький об авторе знаменитых «Левши», «Очарованного странника», «Леди Макбет Мценского уезда». Самобытный талант Лескова заставляет задуматься о загадочной русской душе, о парадоксах и противоречиях национального характера. Напряженные духовные искания, интерес к самым разным сторонам жизни, глубинное знание быта, бесконечное разнообразие сюжетов и ситуаций – все эти черты творчества Лескова нашли отражение в произведениях, включенных в настоящий сборник. Открывая новые для литературы темы, Лесков предложил своим читателям заново посмотреть на весь русский мир.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Семенович Лесков»: