Шрифт:
Закладка:
– Что это за рубеж?
– Граница наших земель, – ответил Лозовой. – Зеленые – совхозные поля, черные – наши.
Поначалу я принял зеленя за всходы яровой пшеницы, но потом по сухому белесоватому блеску стеблей, по их жаловидным концам понял, что это – овсюг, самый коварный сорняк.
– Вот к чему ведет не в меру ранний посев пшеницы по холоду, – сказал Лозовой. – Пшеница еще спит, а овсюг прет; ему хоть бы что. По-хорошему – это поле лущить и пересевать надо.
Несколько минут мы ехали молча.
– Черт возьми! – возмущенно воскликнул Лозовой. – И ведь знают же, что нельзя сеять по холоду. И все-таки сеют. А почему? Чтобы отрапортовать: в этом году сев закончился на десять дней раньше, чем в прошлом. И так каждый год. И если считать по этим газетным рапортам, то теперь сев должен оканчиваться где-то в январе месяце. И все давай, давай, жми во все лопатки! Лишь бы отсеяться… Небось мужика на закрепленном за ним поле не заставишь сеять по холоду…
– Да кто с ним считается? Один не захочет – другого пошлют.
– Это бывает, – согласился Лозовой. – А жаль. Вы приглядитесь к нашему хозяйству; все люди мастеровые, но у каждого есть свое особое пристрастие, ремесло, свой конек. Вот и надо делать так, чтобы каждый отличался в своем коронном ремесле. И не дергать его, не кидать с места на место. Дать ему полную самостоятельность. И все, брат, входит в свою колею: и кукуруза родится, и молоко дешевое, и трактора в сохранности… У нас вот раньше была бригада строителей, делала в том числе и колеса, но колхоз без колес сидел. А сейчас делает колеса один Илья Филатович, и все телеги на ходу. Да какой ход отменный. Так-то. И хозяйство каждое должно иметь свою главную специальность, свое лицо. У нас в иной колхоз напланируют такого, что и по пальцам не перечтешь. Не колхоз, а универсальный магазин! – Он приостановил коня и живо обернулся ко мне; лицо его озарилось какой-то лукавой, хитроватой и дерзкой усмешкой. – Может, слышали, как меня склоняют за свиней?
Я невольно улыбнулся, поддавшись его веселому настроению:
– Да, приходилось.
Мне вспомнилось, как второй секретарь обкома Турткарин сердито отчитывал Лозового заочно: «Председатель заносчивый, избалованный, недопонимает порой важности отдельных мероприятий. – Он сцеплял свои смуглые маленькие руки и с укором глядел на меня. – Вы понимаете, он ликвидировал свиноферму?! Птицу не разводит!..»
– А ведь я в самом деле свиноферму ликвидировал. – Лозовой резким движением поводьев сбивает прядающего коня и смеется. – И кроликов… И птицеферму порешу. Но нам прощают: мы передовые. – Он вдруг становится серьезным и, показав хлыстом на дальние в синем мареве высоты, говорит другим тоном:
– Видели, какая красота? Это все наше… Все – луга. Да какие?! Альпийские! В мире лучших не сыщешь. Самой природой ведено разводить здесь коров, коней, овец. А мне рекомендуют свиней, кроликов, уток… и даже черно-бурых лисиц.
– А не боитесь?
– Я человек отчаянный! – Он привстал на стременах и с гиканьем понесся к селу.
То, что произошло в Солдатове, особенно хорошо понимают сами колхозники, бывшие бригадиры или заведующие.
– Да ведь у нас тут каждый третий либо бригадиром был, либо учетчиком, не то кладовщиком или охранником. Особенно мужики, – рассказывала мне бывший бригадир Фетинья Яковлевна Ракова. – Значит, две мэтэфе было, две конефермы, две овцефермы, две птицефермы, кроликоферма. – Она загибает пальцы, морщинит лоб и вдруг, рассмеявшись, махнула рукой: – Да нешто все перечислишь! Разделили мы все это с Толстых – половина его бригаде, половина моей. И постоянно спорили: тебе близко на фермы ездить, а мне далеко.
– Делать вам нечего было, вот и спорили, – сердито замечает с койки Ирина Самойловна, сухонькая старушка с каким-то темным пергаментным лицом.
Она лежит в неподвижной равнодушной позе, смотрит в потолок, но, видимо, все слушает и время от времени бросает короткие фразы своим хриплым басовитым голосом.
– Ай в самом деле, – рассмеялась Фетинья Яковлевна. – Бригады ликвидировали, и ездить на фермы перестали, и дела лучше пошли.
– Ведь раньше что было? – спрашивает она меня и сама отвечает: – Взвалят все на заведующего, и отвечай: ты и корма добывай, и за молоком следи, и за коровами, и за людьми. Была я заведующей… На моей ферме, на отгонах, шесть коров перебодались да в овраг свалились, ноги переломали. И что ж вы думаете? С меня и удерживать стали. А пастухам, которые пасли коров, – предупреждение. Они и посмеиваются. Небось теперь в оба смотрят: угнали скот на пастбища – и сами хозяева.
– Что же делают все эти бывшие бригадиры и заведующие?
– Работают, – с каким-то радостным воодушевлением произносит Фетинья Яковлевна, – кто плотником, кто трактористом…
– Привы-ыкли, – доносится с койки хрипловатый басок.
Мы беседуем за столом в передней избе; сквозь дверной проем видна чисто прибранная и тесно заставленная вещами горница: там и шкаф, и швейная машина, и приемник, и трюмо, и пышно взбитая кровать – словом, все, что, по деревенским понятиям, должно отмечать культурную, зажиточную жизнь.
– А как раньше жили? – спрашиваю я Ракову.
– Как люди, – отвечает не совсем любезно старуха… – Коней было больше десяти, да коров не меньше.
– По здешним местам это небогато, – говорит Фетинья Яковлевна. – Коней много было, да в изгребном ходили. Сапоги по праздникам носили, а то все в бутылах.
– А што бутылы? Удобней иных сапог. В изгребном ходили! Что ж такого? – Ирина Самойловна поднялась на локтях и повелительно сказала: – А ну-ка, принеси мои ткани! И рушники…
– Да к чему это? – возразила Фетинья Яковлевна.
– Принеси, говорю! – сердито повторила старуха и, пока Ракова ходила в чулан за ее старым добром, отрывисто бубнила: – В изгребном, домотканом… Небось обходились, жили…
Фетинья Яковлевна принесла большую белую домотканую скатерть, тонкую, с шелковистым блеском, мягкие шерстяные поневы, кружева замысловатой и четкой вязи и, наконец, два рушника, один из которых меня поразил красотой и сложностью узора и особенно манерой вышивки: это была не «гладь», не вышивка «крестом», а нечто похожее на плетение китайского гобелена.
Старуха перебирала все крючковатыми желтыми пальцами, искоса поглядывая на меня; ее тусклые карие глаза заметно оживились.
– Неужели все это сделано вами? – невольно вырвалось у меня.
– А что мы не делали? – с вызовом
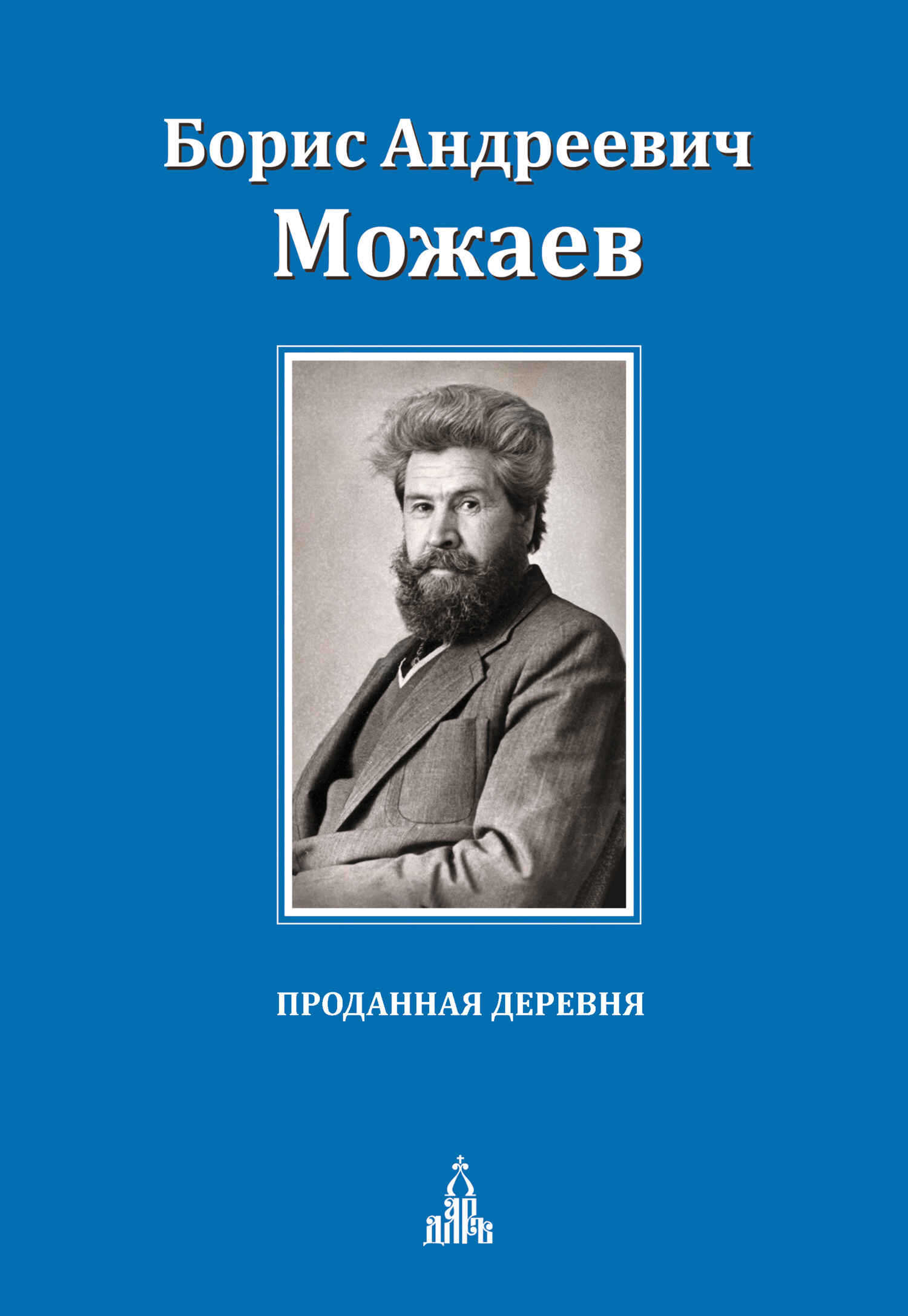
![Проданная деревня [сборник] - Борис Андреевич Можаев](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




