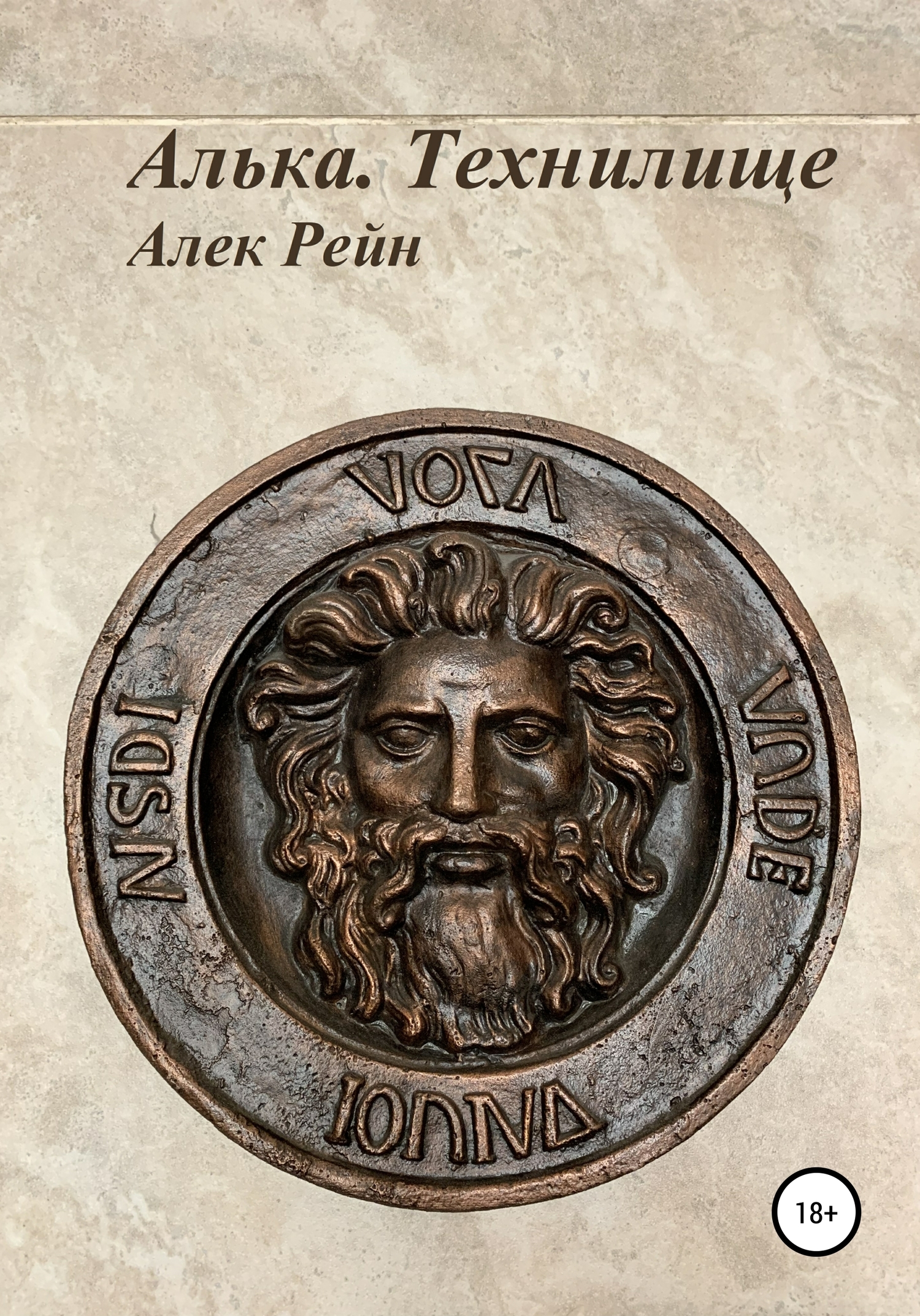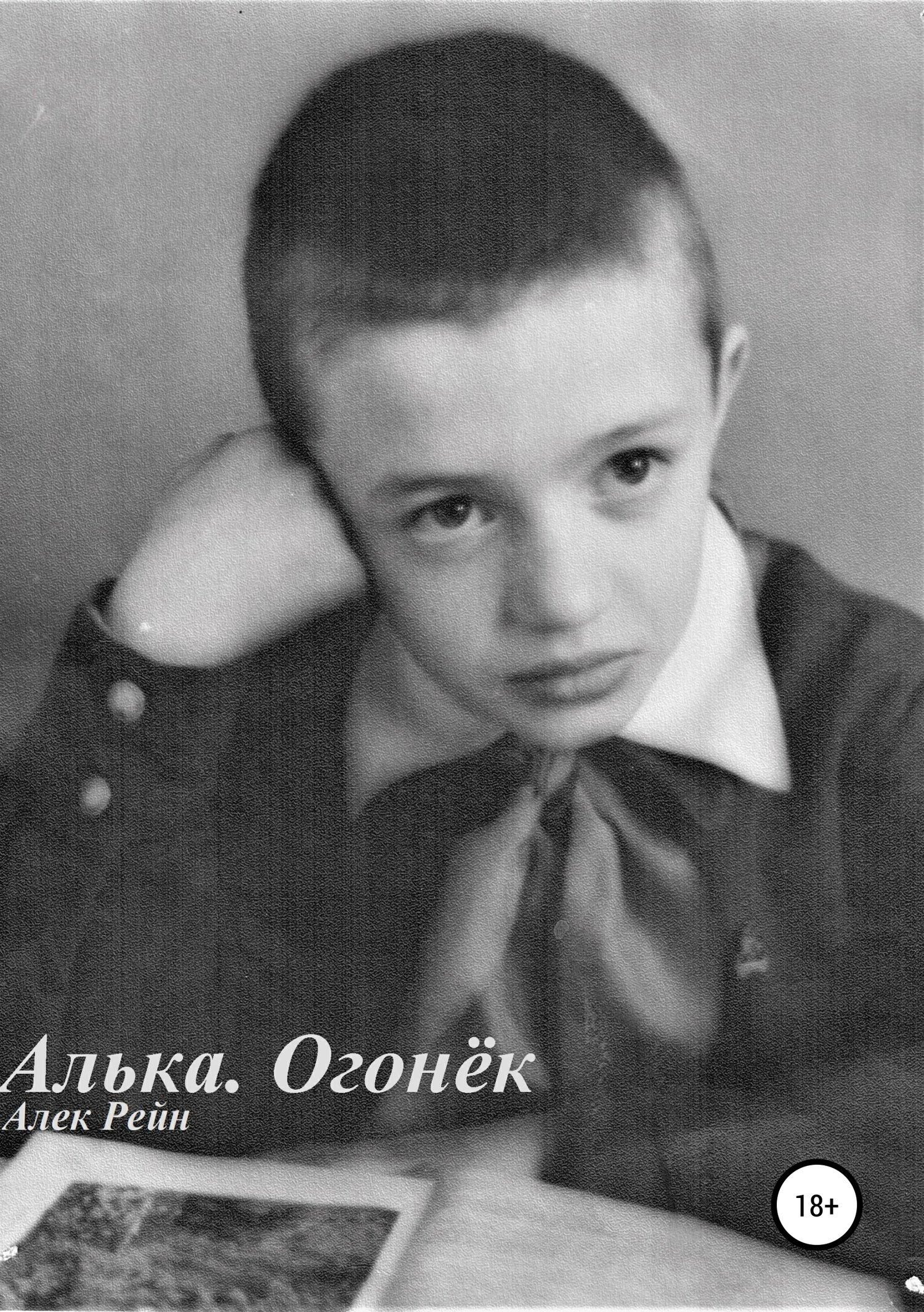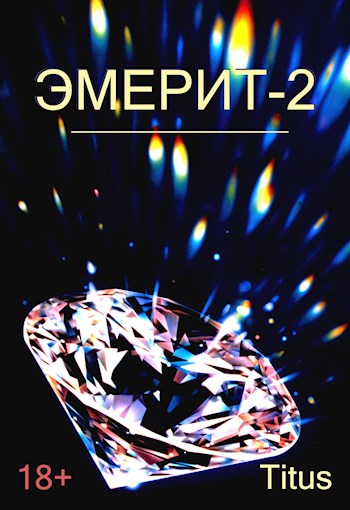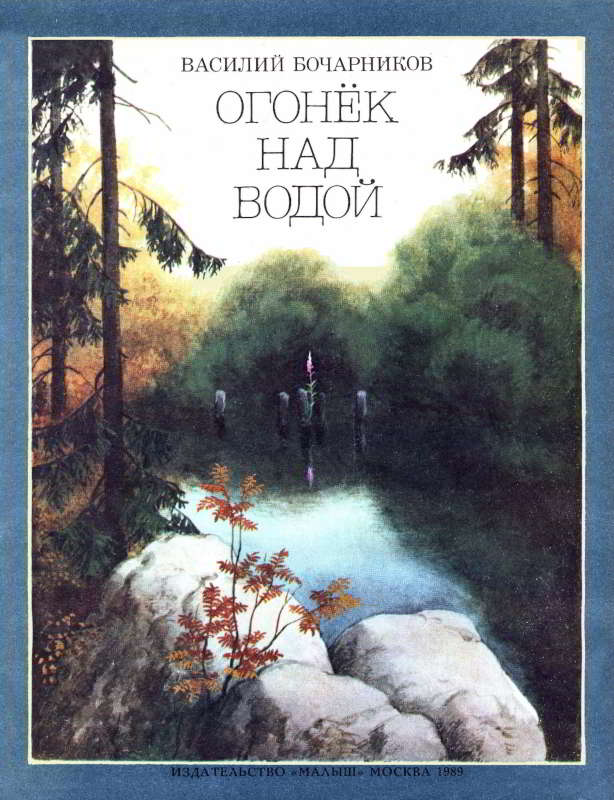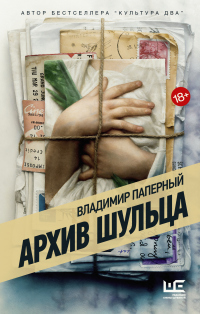Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Вторая глава книги воспоминаний Алька. Описываемый период охватывает время обучения главного героя с первого по восьмой класс, с 1955 по 1969 год. Первая глава книги под названием "Алька. Двор моего детства" опубликована в ЛитРес.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Алек Владимирович Рейн»: