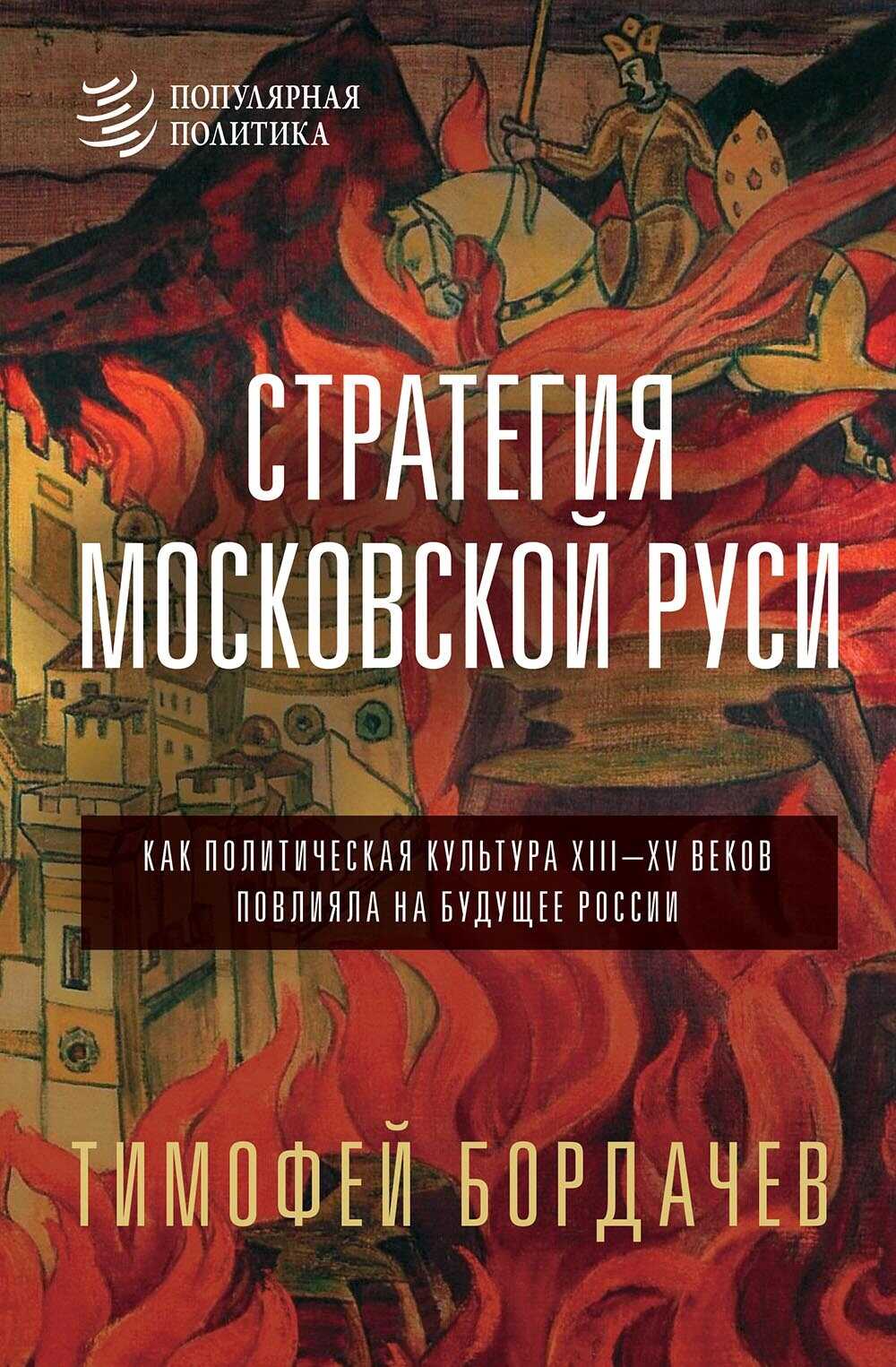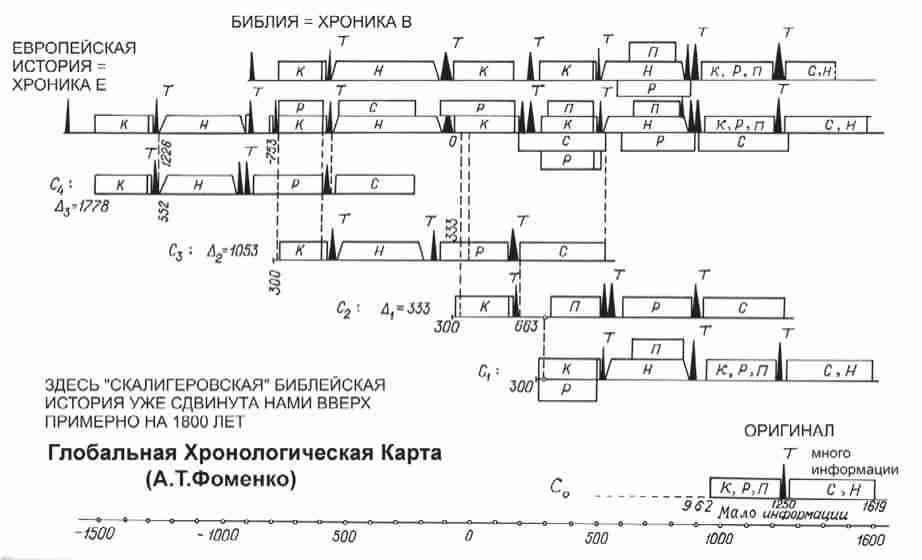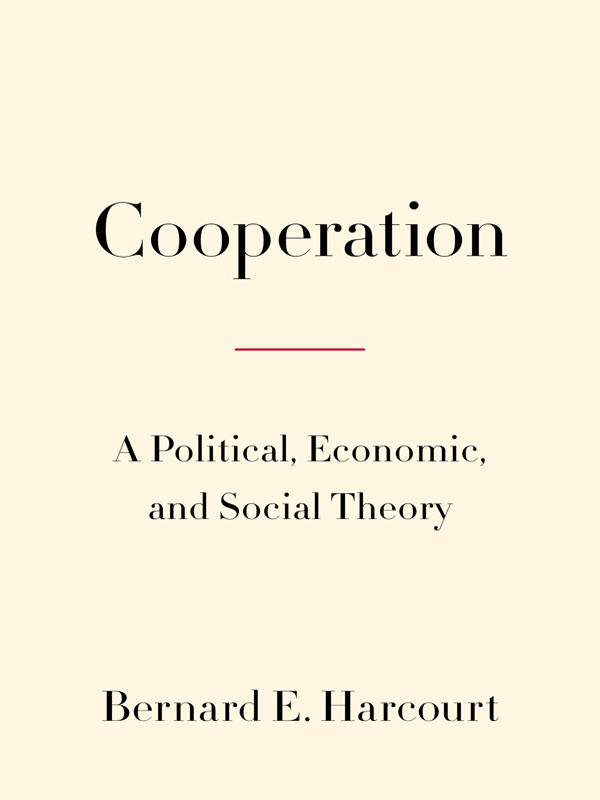Шрифт:
Закладка:
Российская государственность и внешнеполитическая стратегия появились не вдруг и не по воле конкретного властителя или правящей династии. У них не было одного автора-демиурга, они – результат череды усилий, вереницы сменявших друг друга побед и неудач. Борьба с даннической зависимостью от Золотой Орды постепенно перетекла в наступление на прежних захватчиков, а отражение крестоносной агрессии на Балтике незаметно сменилось уже русским давлением на западных соседей. Разделить хронологически эти этапы международных отношений Русских земель практически невозможно, но к концу XV в. в северной части Евразии возникла колоссальная держава со своим уникальным взглядом на мир и себя в этом мире. Наша внешняя политика как продукт естественного развития народа и его государства представляется собой культурное явление не в меньшей степени, чем литература, зодчество или изобразительное искусство. Бордачев Тимофей Вячеславович (1973) – российский ученый-международник, доктор политических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», программный директор клуба «Валдай». В формате А4 PDF сохранён издательский макет.