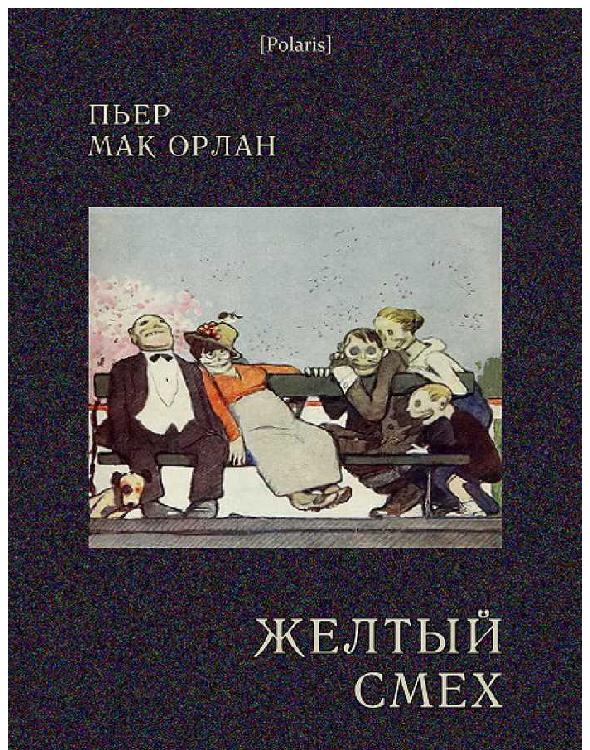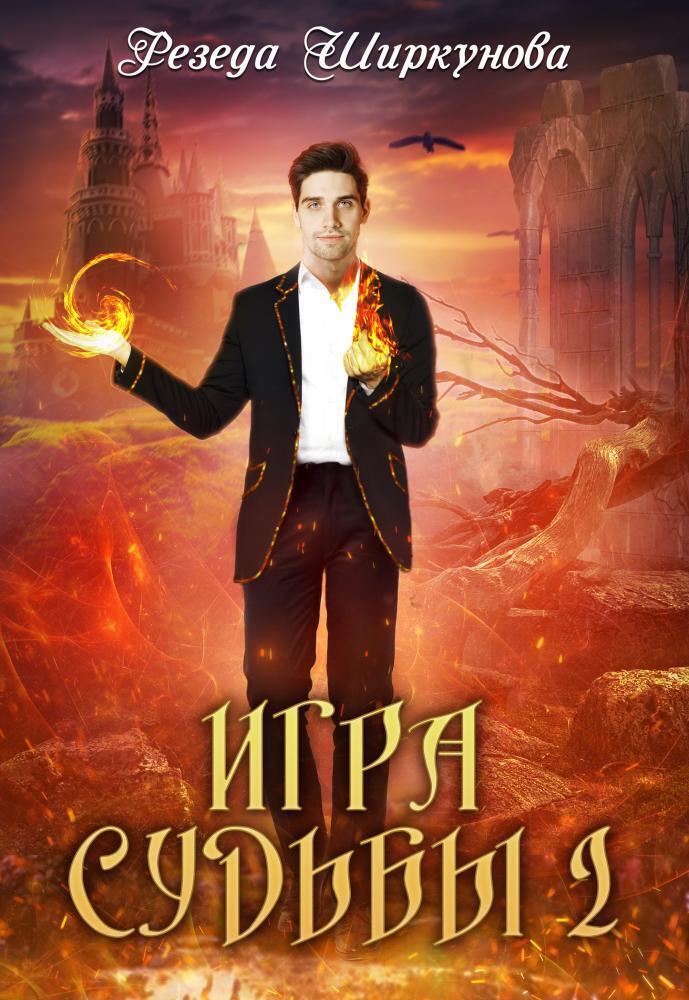Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Последние дни Второй мировой войны. Маньчжурия. Японские захватчики уходят под натиском китайских войск. Переселенцев из Японии ждет страшная смерть. Шестнадцатилетней Тацуру чудом удается выжить, но жизнь ее горька: торговцы людьми продают девушку в бездетную китайскую семью. Утратив даже собственное имя, Тацуру становится наложницей главы семейства и тайной матерью его детей. История «маленького журавля», разворачивающаяся в бурные годы правления Мао Цзэдуна, — роман о мужестве, любви и о том, что люди могут оставаться людьми в тяжелейших условиях.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Гэлин Янь»: