Шрифт:
Закладка:
И вот он какой, тунгус Сенкича, верный сын суровой сибирской тайги:
«Впереди всех идет вожак, тунгус Сенкича. Он по грудь вязнет в снегу, в его руках пальма, он с маху ссекает тонкие деревья, чтоб проложить путь каравану. Мороз, а он весь мокрый, от непокрытой головы струится пар. Сенкича — тунгус отменный, да, впрочем, и все они таковы. Завяжи ему глаза, кружи целый день тайгою, проспится, встанет утром и без ошибки пойдет, куда надо. Ему не нужно солнце, он носит тайное чутье путей в самом себе».
Глухой тунгус Отыркон встретился в дебрях тайги с экспедицией Шишкова, ведомой Сенкичой.
«— Геть, геть! — закричал старик на своих псов и подошел к нам.
— Здравствуй, Отыркон, — сняли мы шапки, с любопытством разглядывая его.
Тунгусы стояли молча. У них нет обычая здороваться. Старик смотрел на нас, разинув рот. Собаки пофыркивали, дрожали…
Старик… выкурил трубку и заговорил довольно правильно по-русски. Голос его был слаб и тонок, как у скопца.
— Вот я старый, четыре раз по двадцать. Никого у меня нет. Совсем глухой. Оленей нет, ничего нет, смерть уехала куда-то, прощай. Как жить? Вот живем, я да две собаки. Кормимся. Смерть приедет, сдохну, куда они без меня? Мало-мало пропадут совсем. Чисто беда совеем…
— Неужели у него нет никого родных? — спросил я Сенкичу.
Да. Сенкича знает старика давно, он действительно одинок, но тунгусы не оставили бы его, кормили бы, да и сам Сенкича сколько раз звал его к себе. Нейдет. Хочет жить своим трудом…»
Драматичен рассказ «Та сторона». Тунгус Василий заблудился не в таежных дебрях — здесь ему нет равных, — а в своих отношениях с Чоччу и Анной. Василий молод, силен, у него доброе сердце, и поступает он сообразно своим чувствам. Это его мораль, его понимание жизни… Василий жалеет Чоччу. Она ему родня: жена его покойного брата. В конце концов она становится его женой.
Но вот «как-то встретил он в тайге молодую женщину, по-чудному встретил, словно в сказке. Высмотрел он на суку белку. И только было прицелился, а ружье — грох! — белка кубарем. Выругался Василий, что ружье само пальнуло, глядь — а к белке женщина нагнулась». Молодая, стройная, красивая… звали ее Анной. Закурили трубки. Анна, затянувшись, передала свою трубку Василию, почмокала розовыми губами и сказала:
— А я, бойе, себе мужика ищу… Муж помер. Одной не славно. У тебя баба есть, бойе?
И тут Василий слукавил. Сначала сказал — есть, но, увидев ее губы, глаза, окинув ее взглядом с ног до головы… замялся. «Нету, — поправился он».
Через некоторое время Василий направился к Анне. На четвертый день он добрался до ее чума. «„Вот, пришел…“ Анна у костра сидела на пенышке и крошила в котел оленье мясо. Подняла на него глаза, осмотрела с ног до головы: Василий красивый, высокий, плотный…»
Но там в тайге, за сотню верст от них, осталась одна-одинешенька в своем чуме Чоччу. Только олени да собаки, а кругом никого. Хотя Чоччу и отпустила Василия к Анне, но тоска по близкому человеку сломила ее женскую гордость, И она приехала к Василию…
«Собаки лаяли отрывисто, зло, словно по зверю. Отпахнулась пола чума, вошла Чоччу с трубкой в зубах, с ружьем.
— Уйми собак, — сказала она Василию.
Тот смущенно вышел.
Женщины быстрыми глазами ошаривали друг друга.
Чоччу была красивая. Но Анна краше. Чоччу вздохнула.
Василий долго не являлся. Обе женщины молча поели мяса и сулихты. Когда пришел Василий, Чоччу собралась в поход.
— Знаю… Ты меня бросил… — сказала она. — Я встану чумом недалеко… день пути…
И пошла: несколько заседланных оленей тащили ее добро, и целое стадо их шло по бокам и сзади.
— Кто такая? — спросила Анна.
— Родня, Давыдиха… Машка. (Имя, данное Чоччу при крещении. — Н. Е.)
Ну что ж! Хорошо можно было бы и с Анной жить. Но сердце Василия дало трещину: исподтиха началось, дале шире, раздвоилось сердце, как рог молодого лончака — оленя. Василий словно встал у следа двух лисиц, разбежавшихся в стороны: хорошо бы разом обеих взять…»
И вот Василий у Чоччу. Он пришел, чтобы поговорить с ней, объясниться, уладить все по-хорошему, чтобы и с Анной жить, и Чоччу одну не оставлять в тайге…
«— Хожу-хожу по тайге — устану… Приду домой — нет никого… был муж — нету… Был Василий — Анна отняла… Ну, каково живешь? — обращается Чоччу к Василию, — славно ли живешь? Рад ли?
— Маленько рад, маленько не рад…
Василий тер рукой лоб, сдвигал и расправлял брови, крякал. Ему надо много толковать с Чоччу… Надо бы самое-то главное сказать, чтобы поняла, надо хорошо языком повернуть: пусть Чоччу успокоится — он ее не бросит.
— Я… Я… ничего… Вот Анна только…
Василий больше ничего не мог сказать. Он в раздражении больно прикусил язык, на глазах слезы выступили. Очень плохой язык, не может вертеться как следует, не может толковать все чередом, по порядку, чтобы складно и мудро, как у шамана.
— Языком вертеть не смыслю… — Василий высунул окровавленный кончик языка и указал на него пальцем. — Тут много, — хлопнул он себя по лбу, — тут того больше, — дотронулся он до сердца, — а язык дурак!.. Прямо дурак, заплетается в зубах, как лисий хвост в трущобе.
Василий опустил голову и засопел. Он все слова расшвырял, а новых не накопилось. И уж до самого вечера сидел молча. Он с любовью разглядывал каждую вещь в чуме. Вот иконка маленькая, закоптелая висит на жерди, а рядом с ней лесной шайтан, звериный хозяин, Боллёй-батюшка, с бисерными глазами. Вот кумоланы, вот для костра рогульки, и все знакомое такое, близкое… свое…»
Вячеслав Шишков тонко, с большим знанием описывает быт тунгусов. Иконка и шайтан — только две вещи, а как много они говорят о бытии лесного человека. Суровая жизнь в тайге, борьба со страшными, непонятными явлениями научила этих людей своеобразной лесной премудрости, сметливости, сделала их характеры сильными, бесстрашными и до наивности доверчивыми. Мать-природа установила им свои «законы» любви, семейных
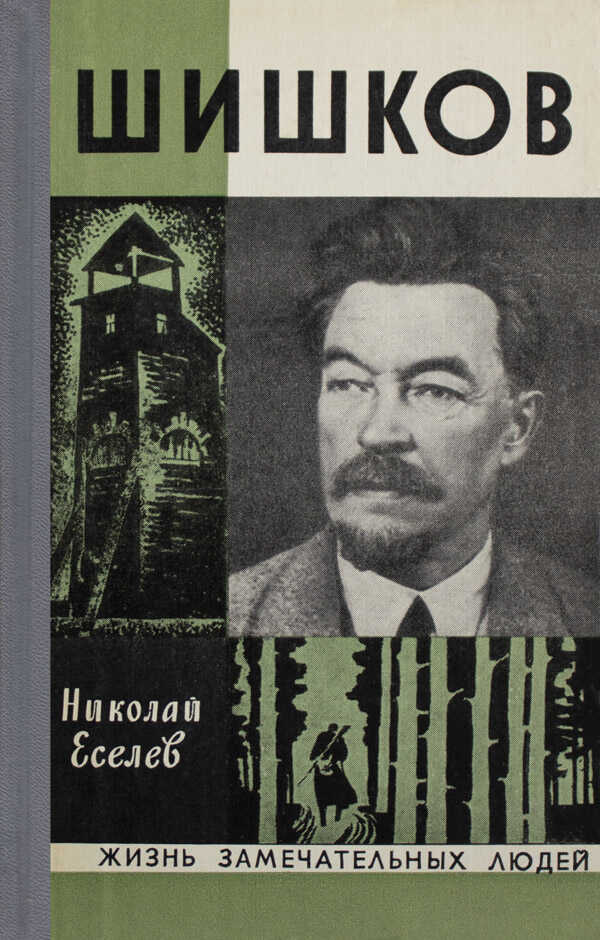


![Deja Vecu [Уже пережитое] - Георгий Евгеньевич Кузьмин](/uploads/posts/books/5203/5203.jpg)

