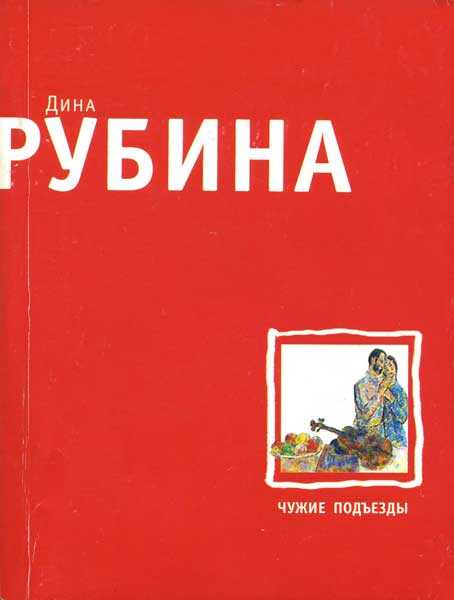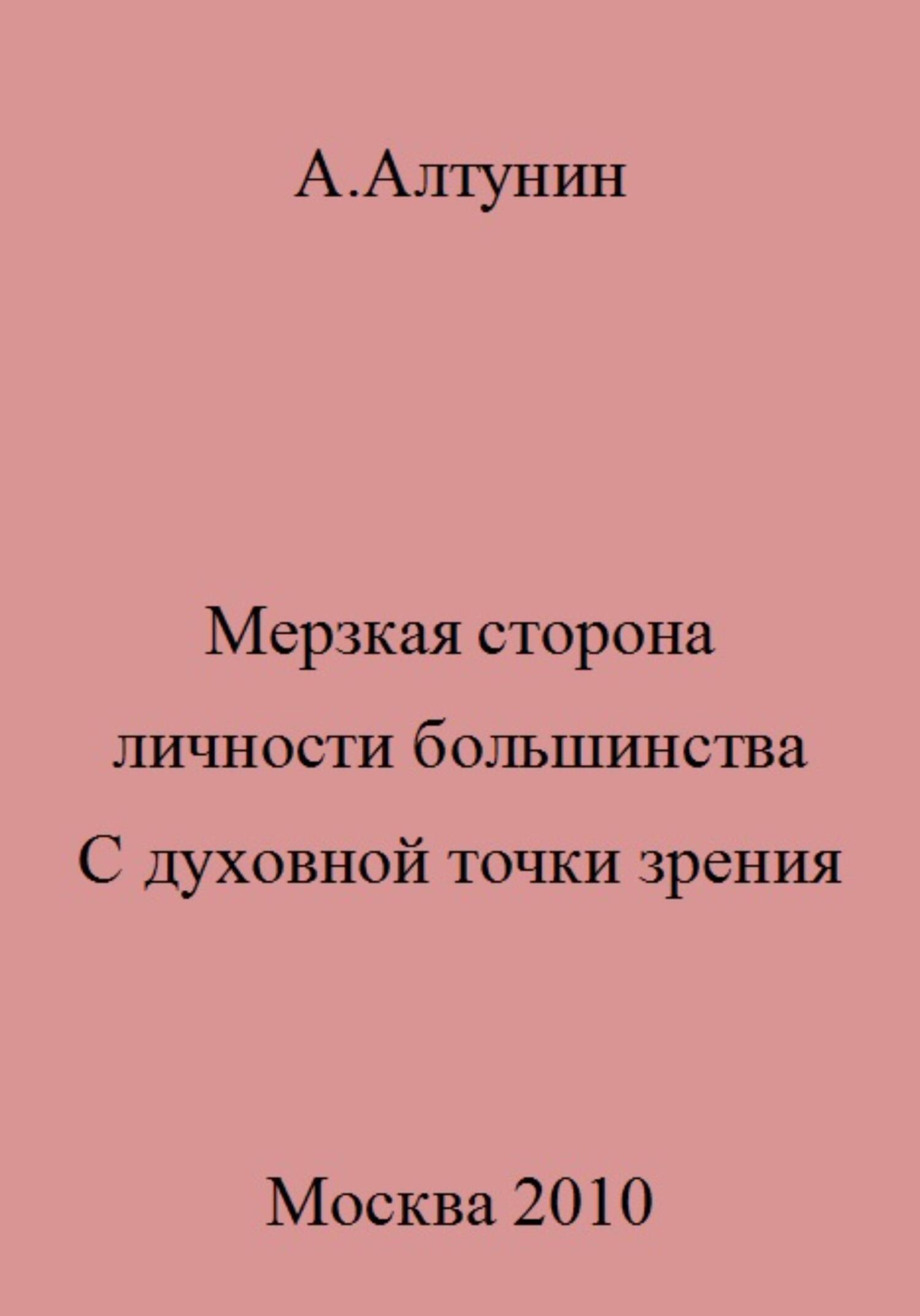Шрифт:
Закладка:
«Моя личная родня была неистова и разнообразна. Чертовски разнообразна касательно заскоков, фобий, нарушений морали, оголтелых претензий друг к другу. Не то чтобы гроздь скорпионов в банке, но уж и не слёзыньки Господни, ох нет. С каждым из моей родни, говорила моя бабка, "беседовать можно, только наевшись гороху!"».«Не вычеркивай меня из списка…» – сборник семейных историй, в котором собраны уже знакомые произведения, а также новые повести и рассказы. Дина Рубина пишет о родных и близких людях с юмором, самоиронией, оптимизмом, образно и эмоционально. Вспоминает свою многочисленную родню и делится историями о муже Борисе Карафёлове, о сестре Вере, о бабушке Рахиль, и даже о любимом питомце Кондрате. Центральное место книги посвящено родителям – маме и папе Дины Ильиничны.«"Не вычёркивай меня из списка!" – вдруг вспоминаю я, и стою оглушённая, не вытирая слёз, под цветущими деревьями, под легчайшими облаками, – посреди жизни, весны, солнечных пятен на тротуаре, снующих-свиристящих в кронах миндаля птиц…»