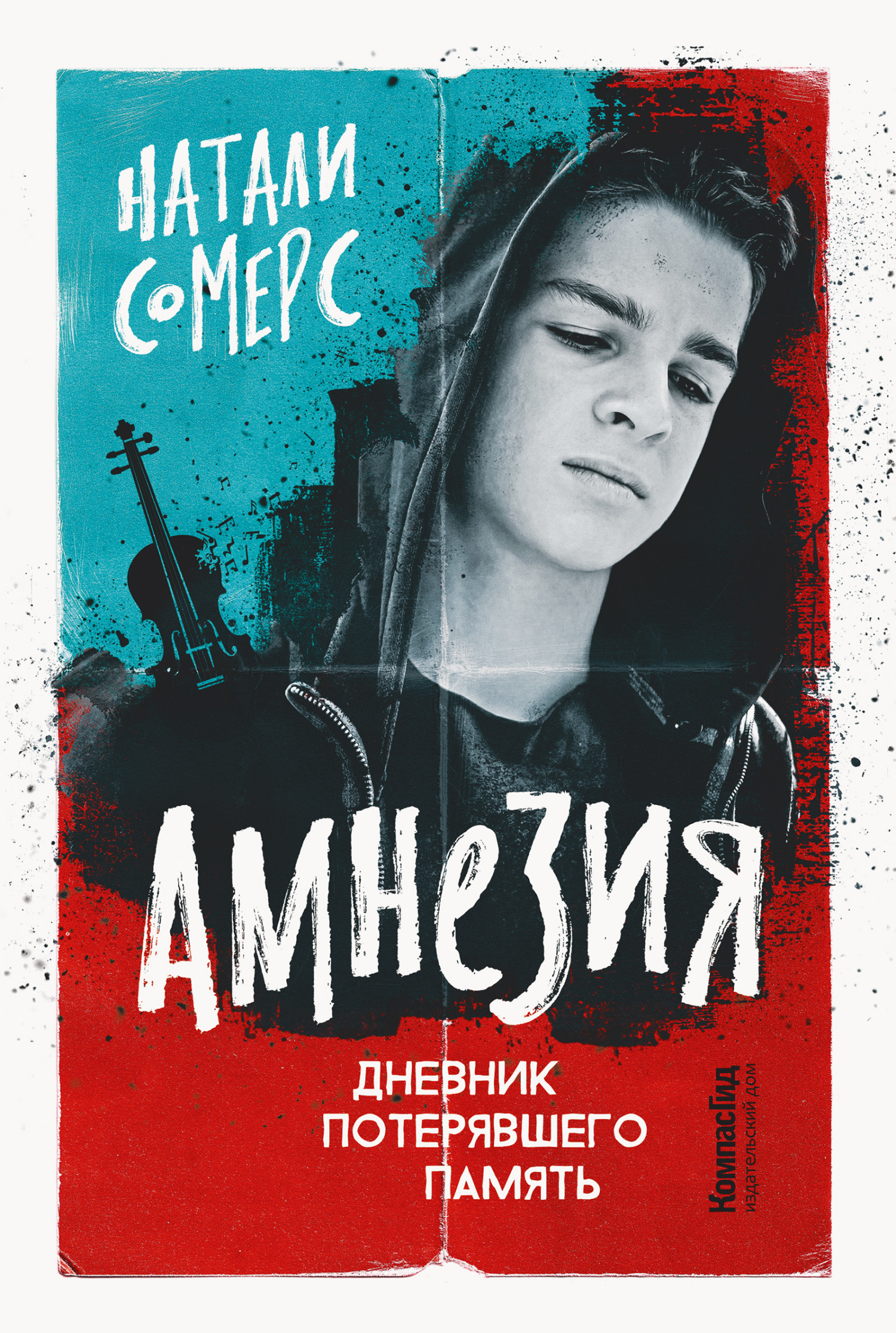Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сокчхо, Южная Корея. Зимой в этом приморском курортном городе жизнь замирает. Французский художник приезжает сюда в поисках вдохновения и собственного места в жизни. С корейской девушкой, которая принадлежит совсем иной культуре, у него завязываются странные, подчас нелепые и болезненные отношения, которые длятся лишь две недели. Роман написан просто и безыскусно, словно прорисован тонкой кисточкой. Язык прозрачный, точный, удивительно красивый, стиль автора завораживает. «Зима в Сокчхо», дебютный роман франко-корейской писательницы Элизы Шуа Дюсапен, стал литературной сенсацией, переведен на тринадцать языков и удостоен премии имени Роберта Вальзера.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Элиза Шуа Дюсапен»: