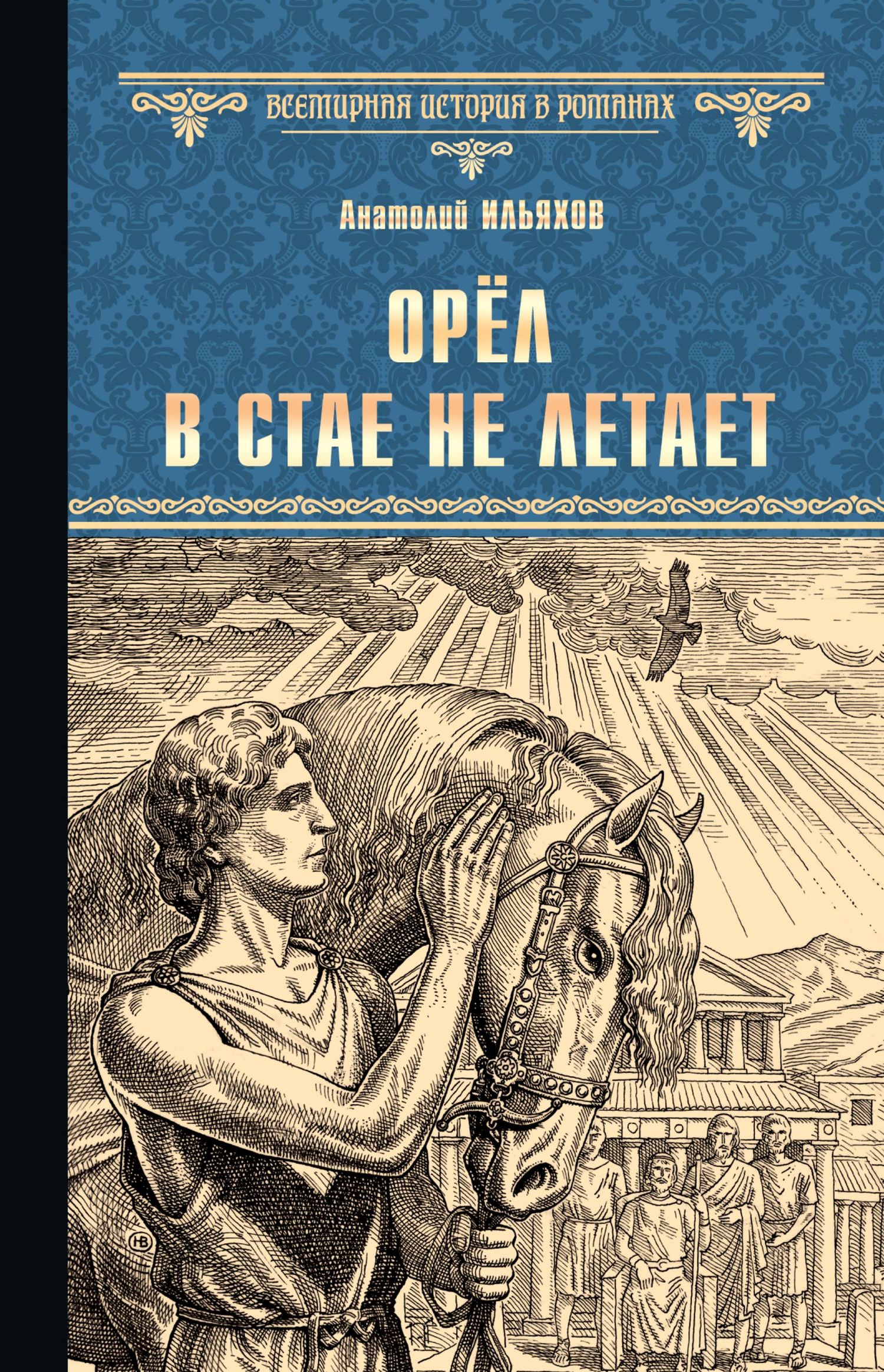Шрифт:
Закладка:
— Однако вы не были обмануты, донна Марион?
— Я, дон Хаим? — спросила она таким тоном, как будто я сказал какую-нибудь нелепость. — Разве я могла бы поверить этому после всего того, что вы для меня сделали. Но вы должны простить Изабеллу за то, что у неё не было такой веры в вас, какую она должна бы иметь. Её женская гордость была так оскорблена, к тому же ей пришлось почувствовать всю остроту ваших слов. Не забудем и то, что дон Педро умел говорить, как никто. Когда он говорил, не замечалось даже отсутствие у него глаз. Когда он говорил о любви, которая всё побеждает, которая может избрать даже слепого, он был великолепен. Я и до сего времени не могу решить, был ли передо мной дьявол, который привык пользоваться любовью для достижения своих целей, или человек, который, как большая часть нас, любит и страдает.
Когда он убедился, что обман уже не действует, он открыл мне правду. «Что значит любовь, — говорил он, — если ради любимого человека не решиться даже на преступление?» Он говорил так, как будто Изабелла поощряла его, но я знаю, что это неправда. Её улыбка всегда была так мила, что люди не верили в её холодность и стремились к ней, как бабочки на огонь. Так как он постоянно твердил о силе своей любви, то я решила обратиться к ней и попросила его:
«Если ваша любовь так велика, то во имя неё отпустите меня к мужу, верните меня к исполнению моих обязанностей».
Эти слова произвели страшное действие. В одну минуту он весь переменился. Всё человеческое исчезло в нём, остался дьявол.
Он ответил мне со сдавленным смехом:
«А, теперь я понимаю! Лицо, которое вам когда-то нравилось, теперь изуродовано и обезображено. Это по-женски!»
И он опять засмеялся, и от этого страшного смеха меня охватила с головы до ног дрожь. Потом произошло что-то ужасное. Он не угрожал прямо, но каждое его слово было скрытой угрозой, гораздо более страшной от этой замаскированное. Перед моими глазами уже предстали пытки со всеми их ужасами и мучениями. Я вытащила из волос бриллиантовую шпильку, наподобие тонкого острого кинжала, которую всегда носила, и убила его.
Донна Марион смотрела куда-то в сторону. На её как бы окаменевшем лице появилось какое-то странное выражение. Тело её дрожало от конвульсивной судороги.
— Было ли это хорошо или дурно, послужило ли это добру или злу, не знаю, — продолжала она монотонным голосом. — Как бы то ни было, дело сделано, и я буду отвечать за него, когда придётся давать отчёт за свои дела. Может быть, Изабелла сделала бы то же самое, но, слава Богу, ей не пришлось так поступить, и её не мучают воспоминания об этом.
— А о себе-то вы когда-нибудь думали, донна Марион? — спросил я, глубоко взволнованный.
— Зачем мне думать о себе? Я одинока и никому не нужна. Я женщина и не могу преодолеть в себе чувства ужаса, когда вспоминаю об этом. Но я рада, что мне удалось удержать её от унижения или от преступления, её, у которой были муж и отец. Чем я рисковала? Моей жизнью. Мы боимся смерти, но почему? Это всего один мучительный момент, а жизнь так длинна…
— Не могу не согласиться с вами, ибо — увы! — я нередко сам предавался таким мыслям. Но откуда у вас, такой молодой и прекрасной, столь печальная философия?
— Не могу вам сказать. Мысли приходят как-то сами собой. Если в полдень к вашему окну подлетит ворон, разве вы можете сказать, откуда он прилетел сюда утром? Жизнь многому учит. Кто виноват, что для одних она складывается радостно, для других печально?
Я молчал. Что можно было бы сказать на это? Мало-помалу донна Марион опять вернулась к рассказу.
— Дон Педро опрокинулся на кушетку и лежал неподвижно. На его лице было выражение, которого я никогда не забуду.
Страсть, удивление, упрёк — всё это смешалось в одно немое, но страшное обвинение. Я стояла тут же, поражённая ужасом, дрожа всем телом, но не могла отвести от него глаз. День догорал, в комнате становилось всё темнее и темнее, отчего его лицо приобретало выражение какой-то страшной торжественности. Я не смела двинуться и не могла ни о чём думать. Я только смутно понимала, что мне придётся ждать здесь, пока не придут и не схватят меня, и затем объявить, что это сделала я, а не Изабелла. Поэтому я ждала до тех пор, пока совсем не стемнело и не настала мёртвая тишина, так что самое моё дыхание казалось слишком громким.
Вдруг позади меня послышался лёгкий шум, и что-то задело подол моего платья. Без сомнения, то была мышь, выскочившая, положившись на темноту и безмолвие. Но мои нервы были слишком напряжены. Я сильно вздрогнула, бросилась к двери и открыла её настежь. Коридор, тянувшийся передо мной, был тёмен и безлюден. Только в конце его тускло горела лампа. Я стояла на пороге, браня себя за трусость. Я хотела было вернуться назад в комнату, но царившее везде безлюдье навело меня на мысль: может быть, мне надо действовать, а не ждать. Может быть, мастер Якоб согласится теперь нас выпустить. Может быть, я сделала не то, что было нужно, но как я могла знать это?
На минуту меня охватило сомнение. Я подумала, что у нас есть шансы на спасение, и быстро, без шума пронеслась по коридору. Везде было пусто. Я была уверена, что найду дорогу, но заблудилась и попала в коридор, который привёл меня к какой-то лестнице. Не знаю, куда вела эта лестница. Я продолжала идти вперёд, зная, что помещение мастера Якоба находилось внизу. Спустившись по тёмной и скользкой лестнице, я очутилась в каком-то огромном погребе. Я уже собиралась броситься обратно, как вдруг увидела перед собой полоску слабого света.
В одну минуту я спустилась и увидела мастера Якоба, который, стоя ко мне спиной, зажигал фонарь. Повернувшись, он столкнулся со мной лицом к лицу. Он вздрогнул и так быстро отскочил от меня, что едва не упал на мокрый пол. Мне никогда не приходило в