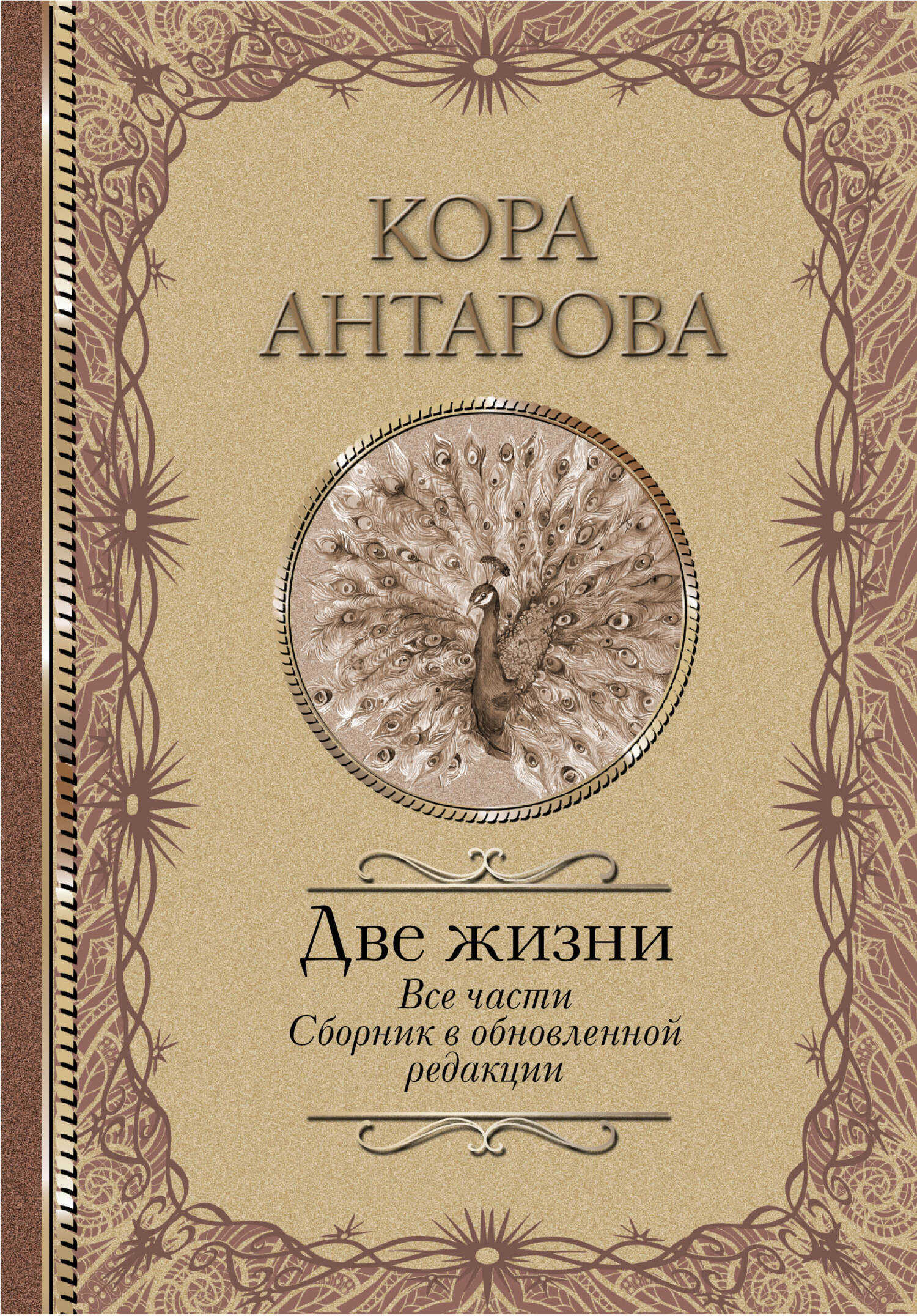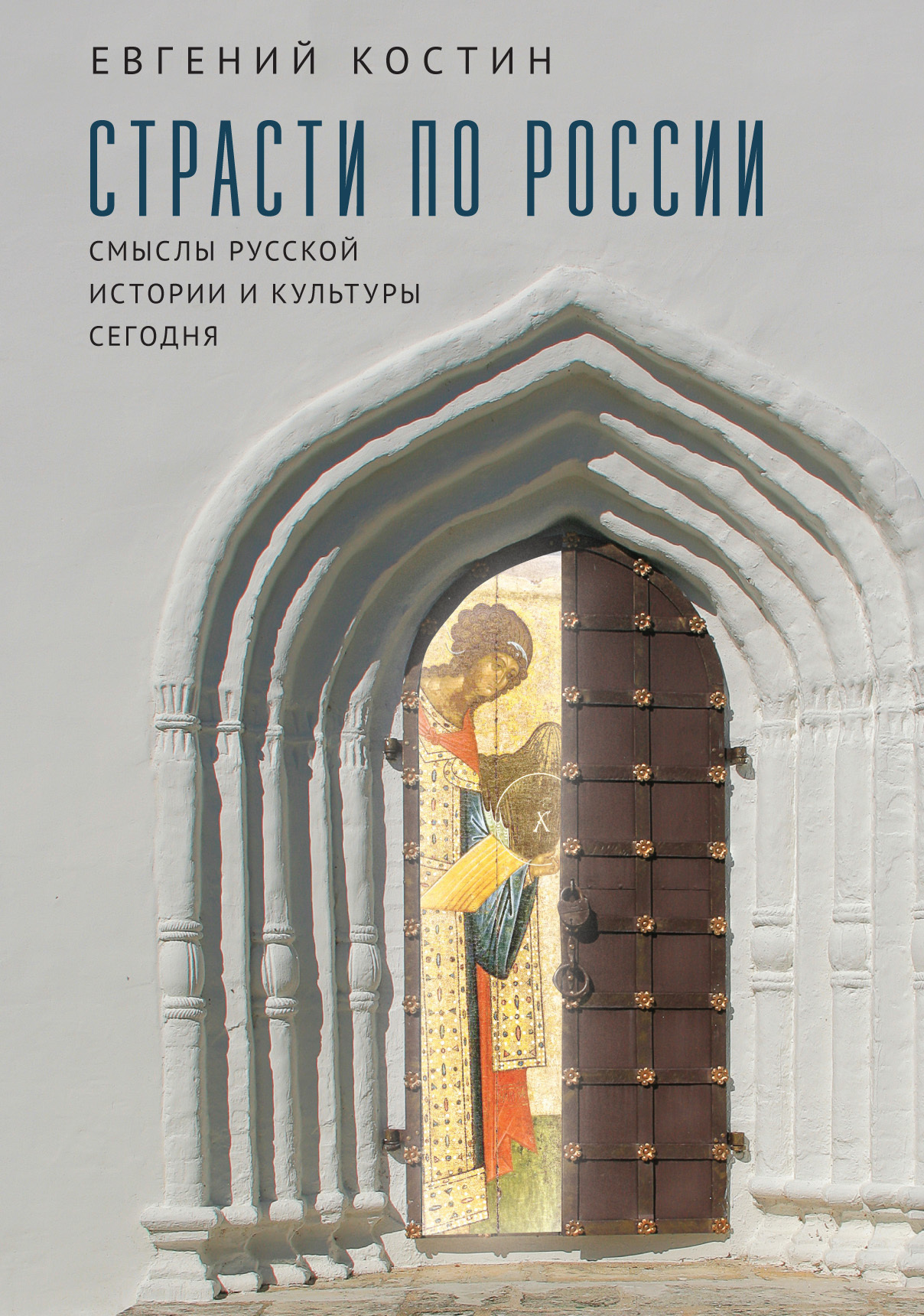Шрифт:
Закладка:
Книга «Две жизни» – мистический роман, который популярен у людей, интересующихся идеями Теософии и Учением Живой Этики. Этот текст был написан известной оперной певицей, ученицей К.С. Станиславского, солисткой Большого театра Конкордией Евгеньевной Антаровой (1886–1959). Как вспоминала сама Кора Антарова, книга писалась под диктовку во время Второй мировой войны и являлась знанием, переданным через общение с действительным Автором посредством яснослышания – способом, которым записали свои книги «Живой Этики» Е.И. Рерих и Н.К. Рерих, «Тайную доктрину» Е.П. Блаватская.Главные герои «Двух жизней» – великие души, которые завершили свою эволюцию на Земле, но остались, чтобы помогать другим людям в их духовном восхождении. Именно поэтому ощутимо единство Источника всех вышеупомянутых книг: учение, изложенное в «Живой Этике», как бы проиллюстрировано судьбами героев книги «Две жизни». Это – Источник Единой Истины, из которого вышли Учения Гаутамы Будды, Иисуса Христа и других Великих Учителей.Впервые в книге, предназначенной для широкого круга читателей, даются яркие и глубокие Образы Великих Учителей, выписанные с огромной любовью, показан Их самоотверженный труд по раскрытию Духа человека. Теперь каждый из нас может приобщиться к Великой Истине, открыть для себя все новые и новые знания, которые на самом деле находятся всегда внутри нас…Роман «Две жизни» не теряет своего живительного воздействия до сих пор, погружая нас в удивительный мир духовной мудрости и психологических закономерностей развития человека. Наконец одно из самых эпохальных мистических сочинений XX века представлено и в виде сборника, чтобы читателю было удобнее ознакомиться с ним от начала до конца.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.