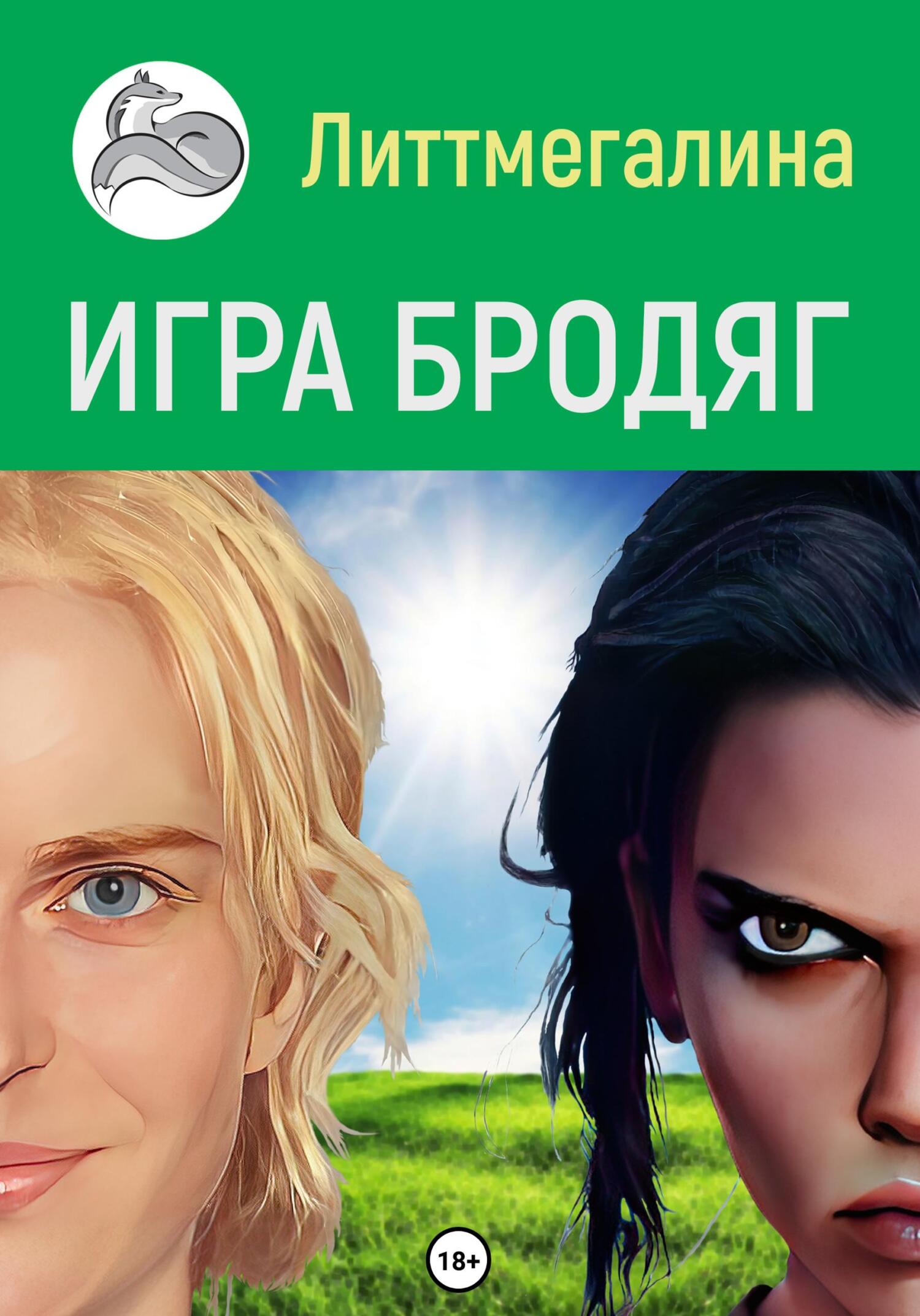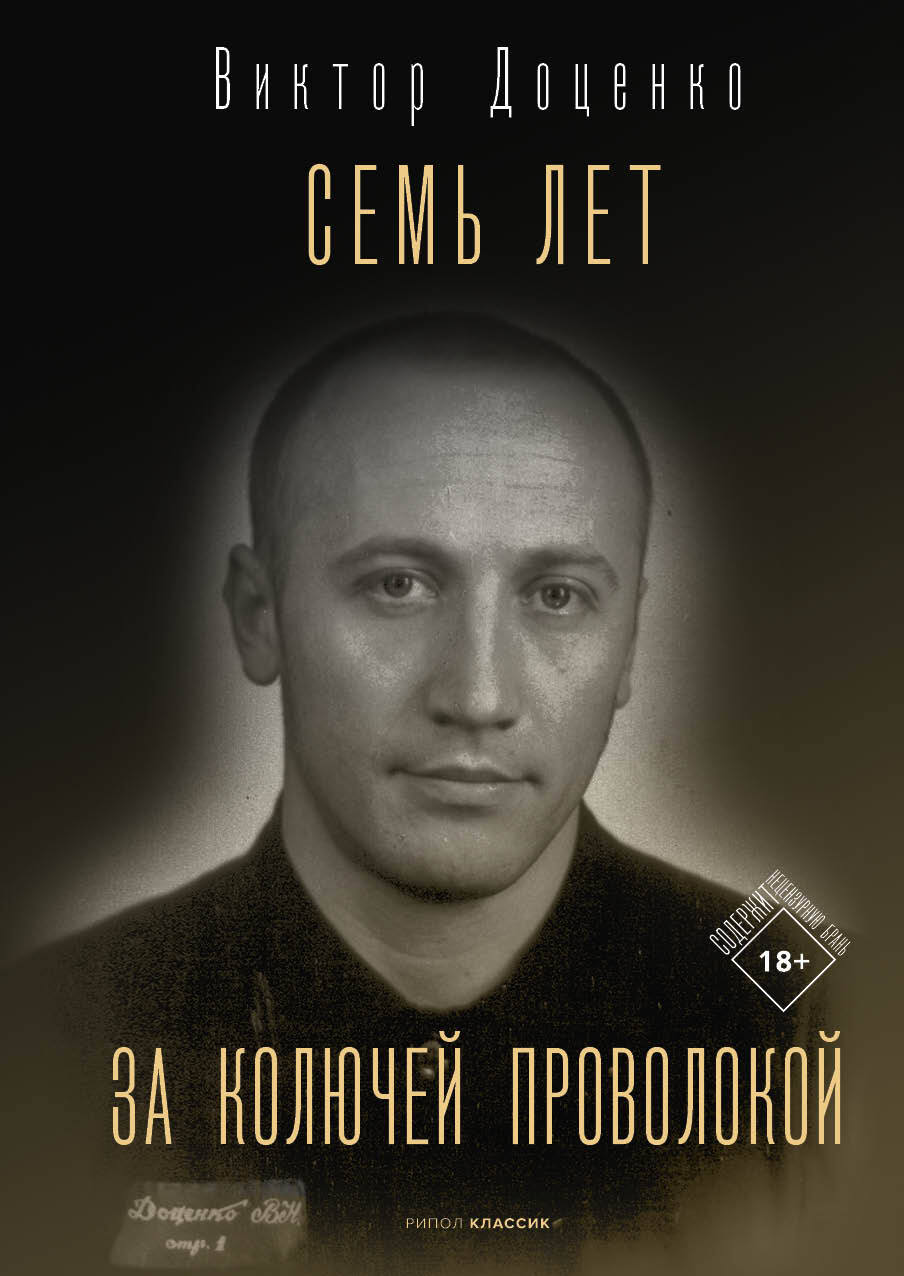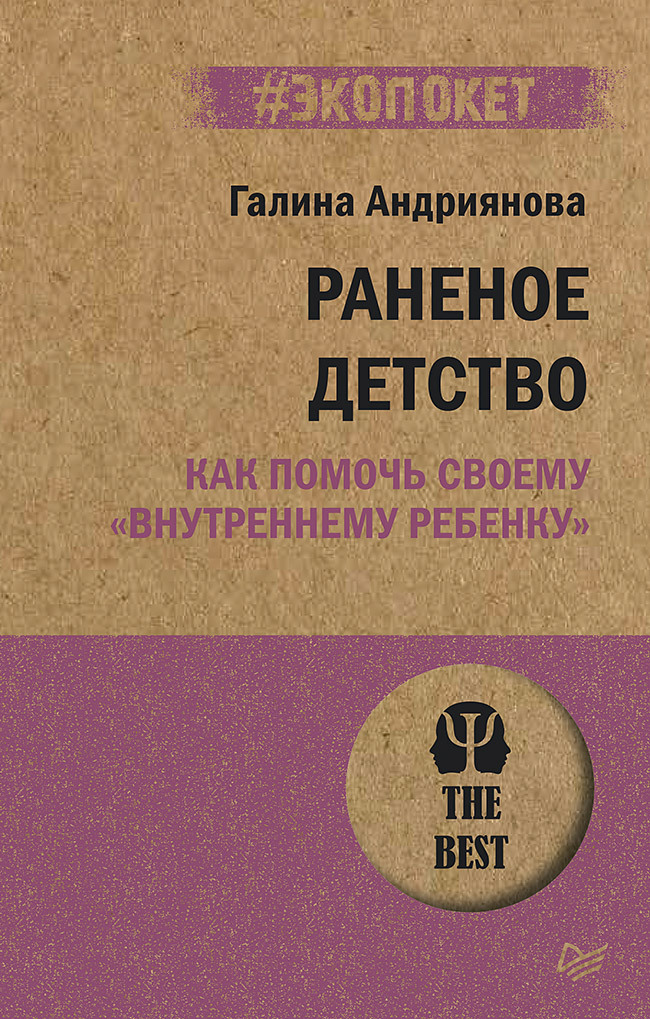Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мир раздирают конфликты и войны. Оказавшись в плену, Наёмница встречает лучезарного белокурого монашка, который предлагает ей странную игру, победа в которой сулит избавление от всех бед разом. Главное правило этой игры — НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах НИКОГО НЕ УБИВАТЬ. Вот только соблюсти это условие будет невероятно сложно…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Литтмегалина»: