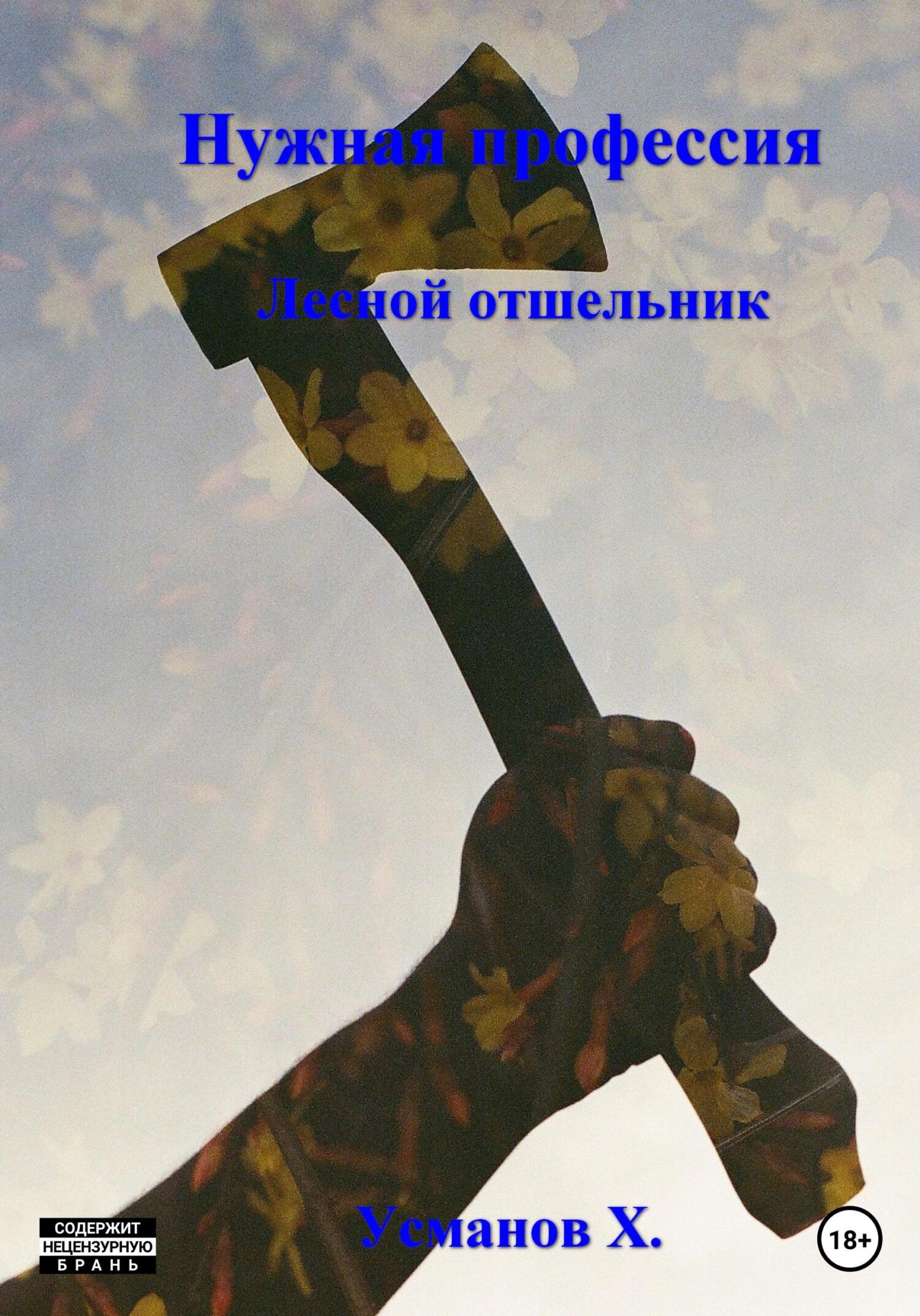Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Тайна семьи Фронтенак» – самый мягкий и лиричный роман Мориака, в котором литературоведы находят автобиографические мотивы. Очень необычная история семьи для Франции начала XX века. В семье торжествуют принципы взаимной любви, понимания и уважения. Именно из нее выходит талантливый молодой писатель, не сомневающийся в своем призвании. Жизнь не всегда будет к нему благосклонна, но семейные ценности, усвоенные в детстве, помогут ему справиться с трудностями, разочарованиями и поражениями взрослой жизни.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Франсуа Шарль Мориак»: