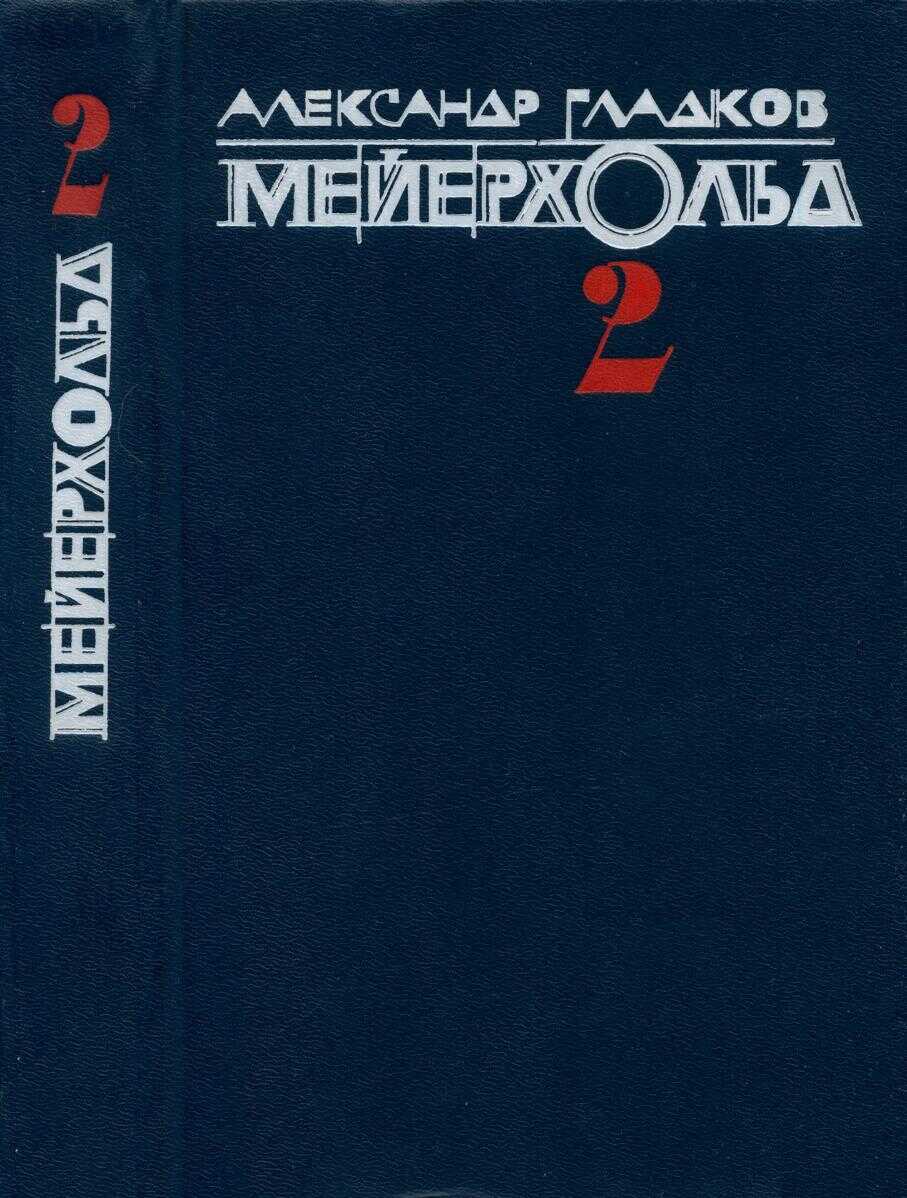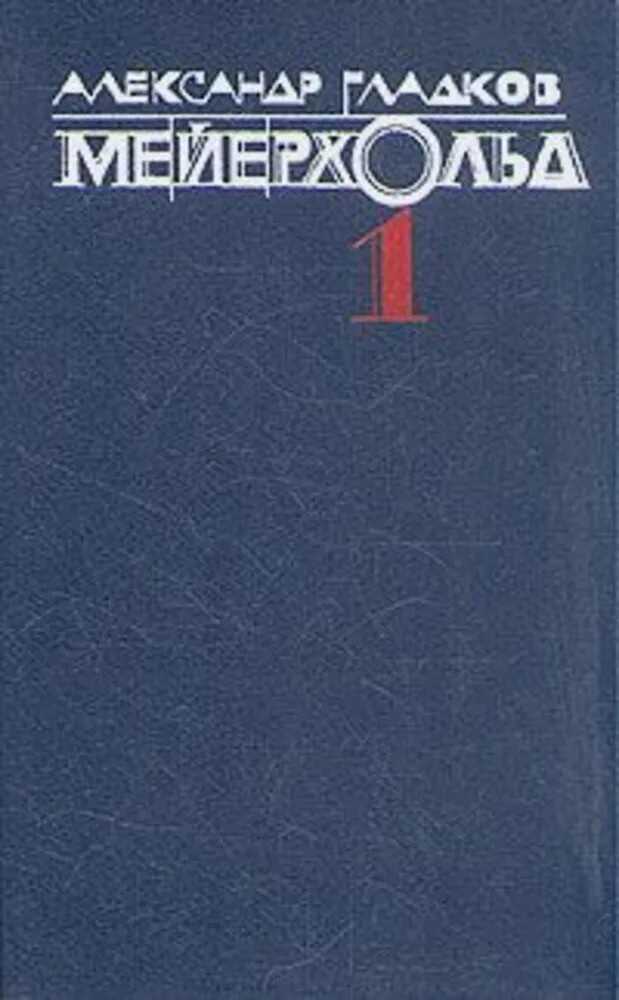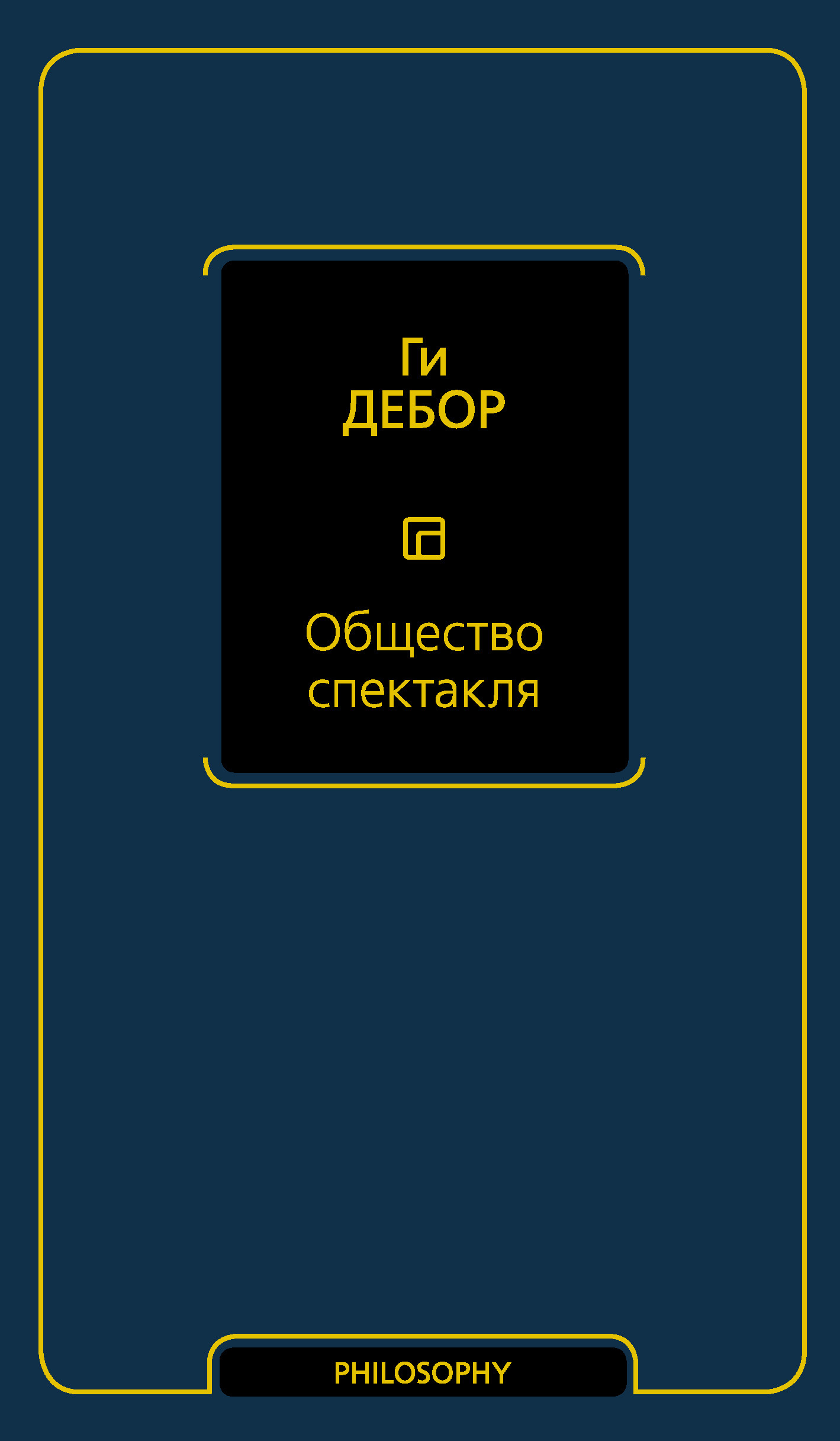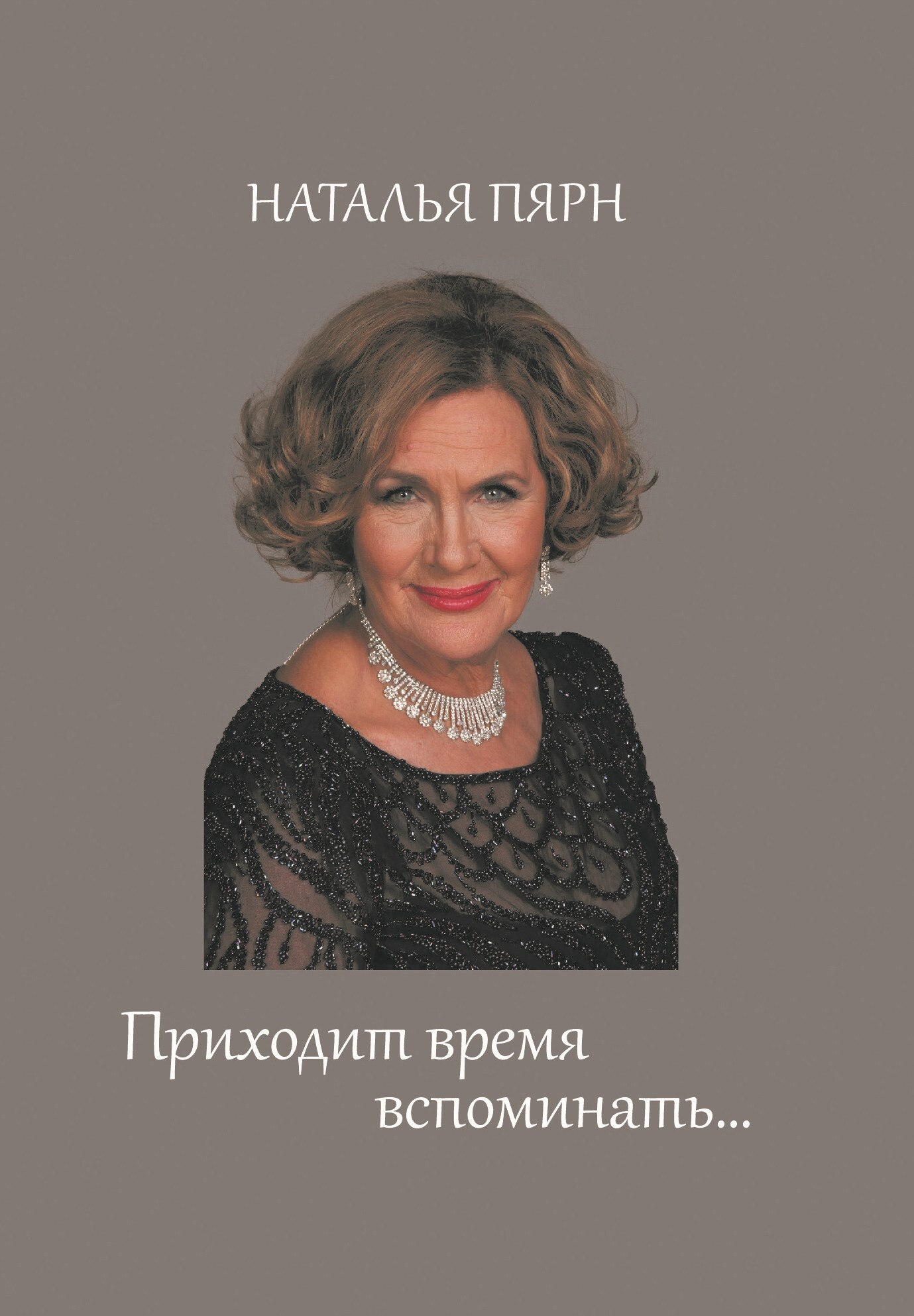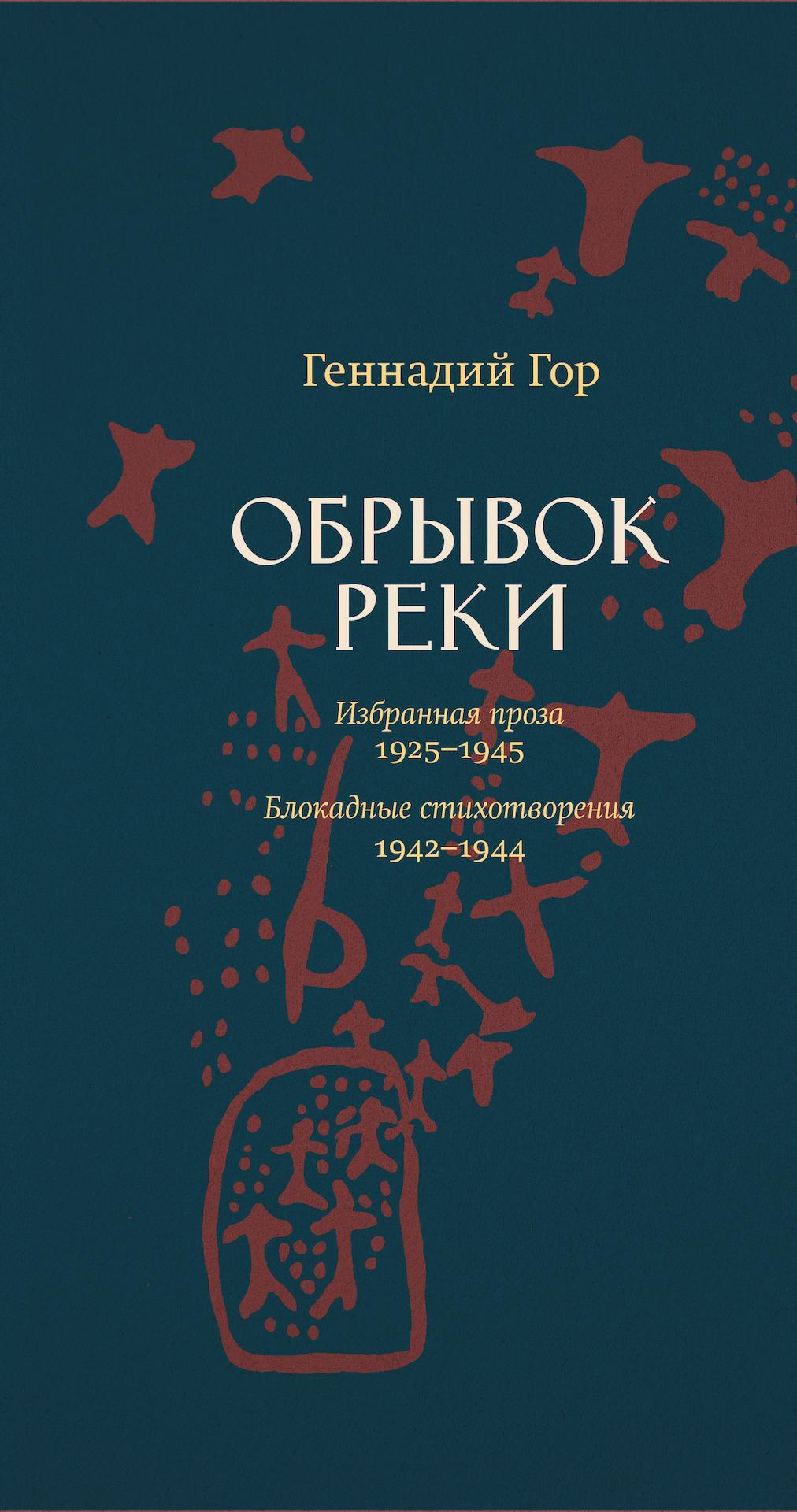Шрифт:
Закладка:
Не так давно. Пять лет с Мейерхольдом Встречи с Пастернаком. Другие воспоминания - это уникальный свидетельский рассказ об одном из самых ярких и трагических периодов в истории русской культуры от Александра Константиновича Гладкова, автора Фактов и фантазий. Это книга о том, как автор лично знакомился и общался с выдающимися деятелями литературы и театра XX века.
Александр Гладков - это писатель, журналист и театральный критик, который работал в разных изданиях и был близок к многим знаменитостям своего времени. Он был другом и соратником Всеволода Мейерхольда, одного из самых новаторских и скандальных режиссеров советского театра. Он был знакомым и почитателем Бориса Пастернака, одного из самых талантливых и преследуемых поэтов советской эпохи. Он был свидетелем и участником многих событий и явлений, которые определили ход истории и культуры.
В этой книге вы найдете:
- интересные и правдивые воспоминания об удивительных людях и их творчестве;
- подробные и живые описания театральных спектаклей, литературных вечеров, личных встреч и разговоров;
- цитаты и комментарии самого автора и его героев, которые помогут вам лучше понять их характеры и мировоззрения;
- фотографии и документы, которые помогут вам представить атмосферу того времени;
- новый взгляд на не так давно минувшую эпоху, которая до сих пор вызывает интерес и споры.
Вы можете читать эту книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Не упустите шанс окунуться в удивительный мир воспоминаний, полный приключений, магии и истории - Не так давно. Пять лет с Мейерхольдом Встречи с Пастернаком. Другие воспоминания.