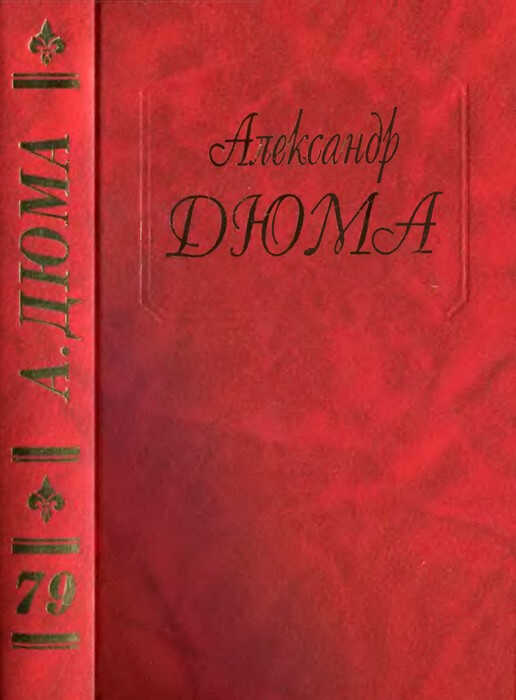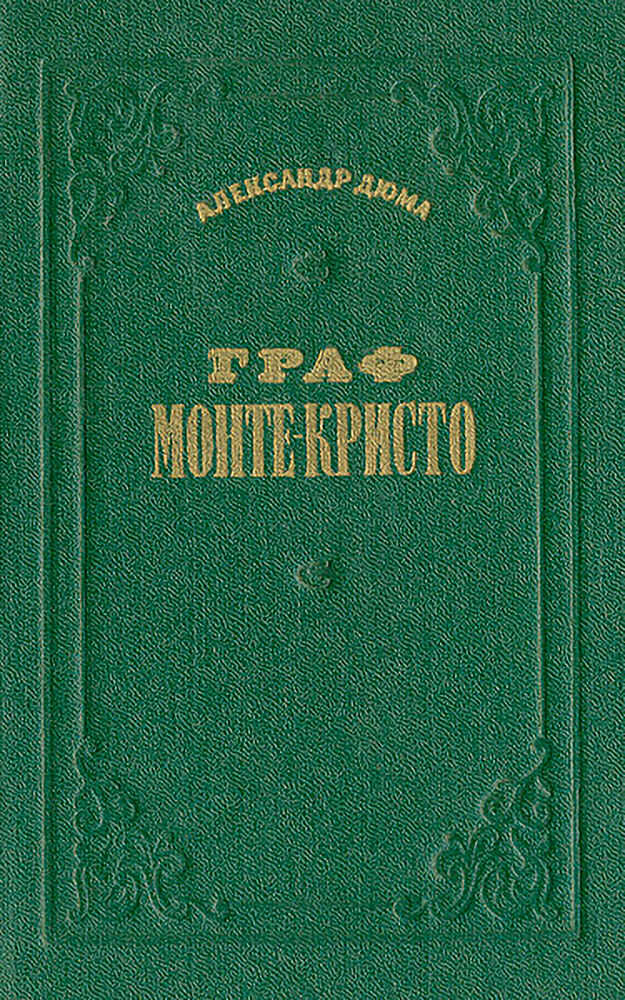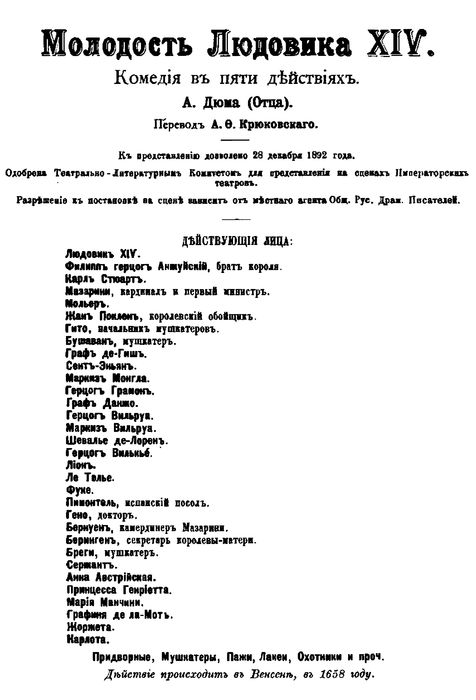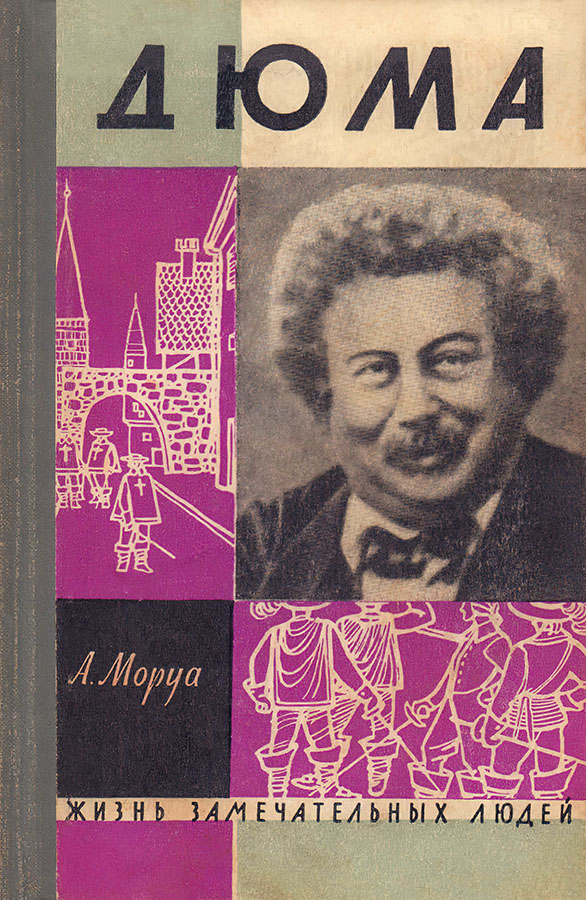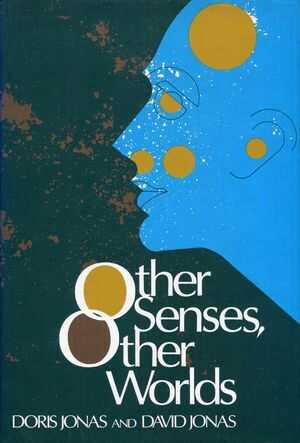Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
• ТОМ ВТОРОЙ • • Часть четвертая • • Часть пятая • • Часть шестая •
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Дюма»: