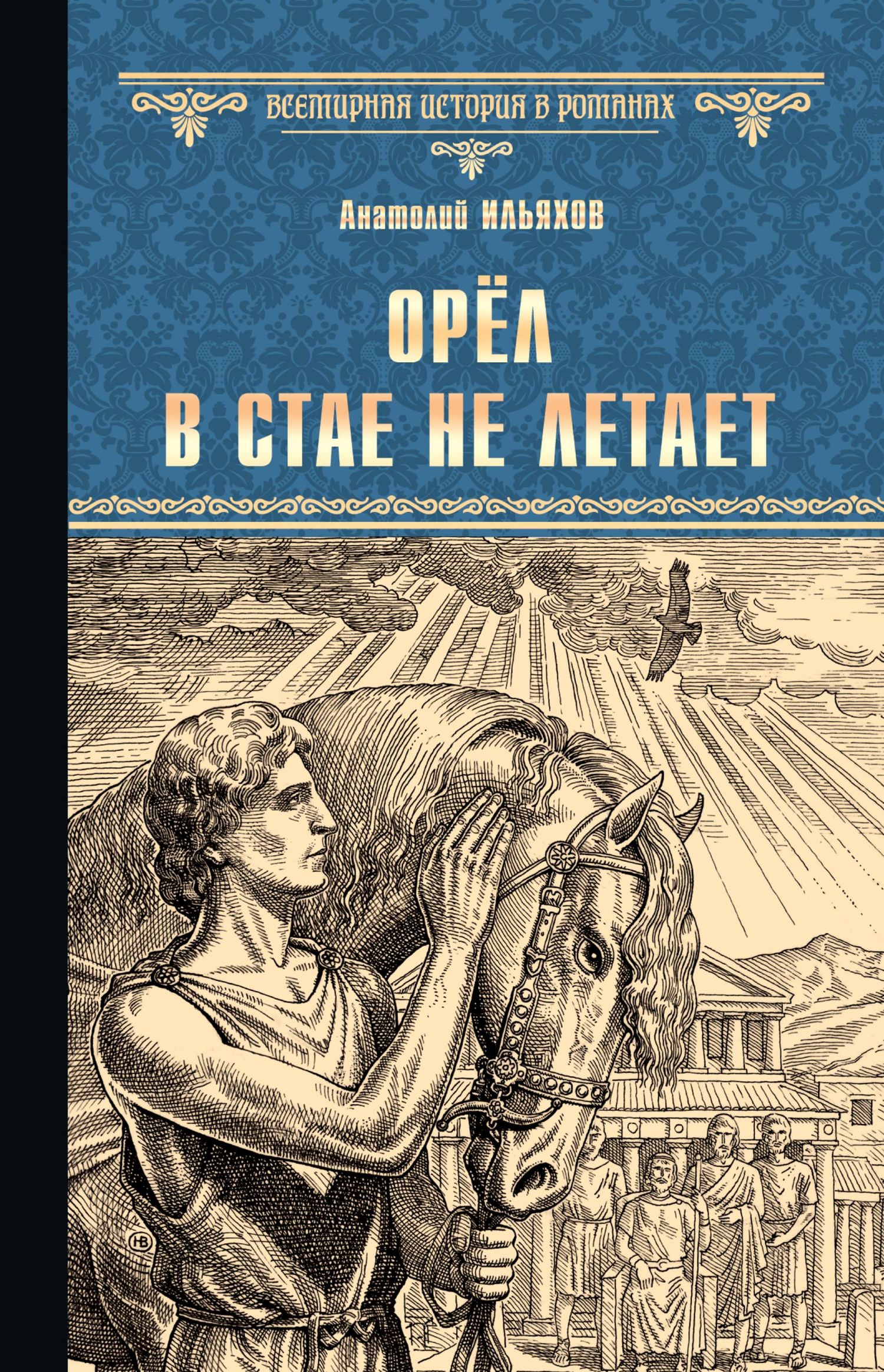Шрифт:
Закладка:
Печально и медленно продвигались мы вперёд. По мере того как проходила ночь, длинная зимняя ночь, остановки приходилось делать всё чаще и чаще. Наконец на востоке показалась слабо светившаяся красная полоска. Но наступавший день обещал быть ужасным. Тяжёлые облака клубились на горизонте. Местность, по которой мы двигались, как нельзя лучше гармонировала с серым небом. То была обширная равнина с редкими, разбросанными там и сям группами низкорослых сосен, ветви которых были искривлены и согнуты бурями. Извивавшаяся перед нами дорога вела вниз к большой реке, смутно белевшей вдали…
Воздух сырой. Предрассветный ветерок. Я дрожал. Какая-то странная усталость овладела мной. Я чувствовал себя разбитым и сонным. Шлем, казалось, давил с такой силой, что я был не в состоянии носить его. Я, вероятно, ехал, покачиваясь в седле. Через несколько минут, очнувшись, я увидел, что сижу, прислонившись к краю дороги, а барон фон Виллингер держит бутылку у моего рта.
Я бросил взгляд вокруг себя. Сначала я никак не мог понять, где мы. Всё вокруг меня имело такой величавый и странный вид. Всё было бело. Невдалеке от нас отряд войск тёмным пятном тяжело расположился на снегу. Лошади понурили головы, и одни лишь пики торчали к небу. За ними расстилалась обширная, пустынная равнина. Казалось, как будто мы затеряны в этом белом безбрежном пространстве. Стоя неподвижно в едва брезжащем свете зари, солдаты имели какой-то необычно торжественный и вместе с тем печальный вид. Сначала я не мог понять, что всё это значит.
— Это всё результаты падения на вас этого проклятого горшка, дон Хаим, — сказал барон. — Позвольте мне снять ваш шлем и промыть вам голову.
Тут я всё вспомнил.
Он откуда-то принёс воды, и я предоставил ему действовать, как он знает. Вдруг он взглянул на меня с изумлением и сказал:
— Вы поседели, дон Хаим!
— Неужели? — спросил я равнодушно.
— Я сначала думал, что это от дыма или, может быть, пристала зола. Но это не оттереть. Хороший удар вы получили. Впрочем, вы отделались одним лишь ушибом. Через день или два вы будете чувствовать себя опять молодцом. Надеюсь, графиня здорова? — спросил он, посматривая на меня.
— Не знаю, — отвечал я. — Она осталась в Гертруденберге.
Барон с удивлением сделал шаг назад.
— Пресвятая Дева! — воскликнул он.
Он был лютеранин, но предпочитал выражать свои чувства, как то делают католики.
— Если бы вы сказали мне раньше, дон Хаим, то не оказалось бы такого места, которое мы не взяли бы с бою ради неё.
— Я знаю это и сам не хотел уезжать из Гертруденберга без неё, но я не представляю, где она. Вероятно, её рассудок не выдержал всех этих потрясений.
Эту унизительную ложь я повторял всем, кто спрашивал меня о жене.
— Когда я вошёл в комнату, чтобы взять её с собой, её там не оказалось, а ждать было невозможно.
— Пресвятая Богородица! — повторил он. — Теперь я понимаю, отчего у вас волосы поседели. Она в Гертруденберге, где дон Педро полновластный хозяин!
Последние слова он пробормотал себе в бороду, думая, вероятно, что я его не услышу.
— Да, — отвечал я. — Но я выколол ему глаза. Хотя, признаюсь, мог бы и убить его.
Барон опять сделал шаг назад.
— Heiliger Giott! — воскликнул он на этот раз по-немецки. — Много же вы натворили за одну ночь!
— Да, немало, — грустно отвечал я. — И ещё больше предстоит сделать. Прислушайтесь-ка.
Фон Виллингер насторожился, потом стал на колени, позвал своего помощника и приказал ему строиться в боевом порядке.
— Вы можете сидеть на лошади, дон Хаим? — с тревогой спросил он.
— Да, конечно. Теперь не время думать о своих болячках.
Самой важной задачей было доставить женщин, раненых, вьючных лошадей и вообще всё, что задерживало продвижение войска, поскорее к реке, и, если окажется возможным, посадить их в лодки, прежде чем произойдёт столкновение. Лодки, которыми я запасся заранее, были уже здесь и чёрной линией тянулись по воде. Но их было недостаточно, чтобы забрать нас всех. К тому же не было и времени всем усесться в них. Мы ещё не могли видеть врагов, так как с четверть мили нам пришлось ехать под уклон, но уже слышно было, как где-то вдали скачут лошади. Шум доносился ещё издалека, но, если приложить ухо к земле, становился совершенно явственным.
Я считал, что мы уже вне опасности, или, если сказать правду, не обращал должного внимания на то, насколько быстро мы двигаемся вперёд. Ибо целую ночь я тщетно боролся с судьбой. Раньше мне удавалось раза два заставить её уступить перед моей волей, но в решительный час моей жизни она оказалась сильнее меня. Когда настало утро, я был уже обессилен и не учитывал, как следовало бы, время. Мы замешкались на нашем пути, опоздали на целый час, а этот час значил многое.
Мы выслали вперёд багаж и всех не способных сражаться и поторопили их всячески. Но среди них началась, как всегда бывает в таких случаях, лишь суматоха и паника. Женщины кричали; некоторые из них упали с лошадей, несколько лошадей от испуга шарахнулись в сторону; мужчины ругались. Некоторое время здесь был прямо ад, пока я не протиснулся сквозь толпу и не водворил порядок.
Я наблюдал за этим авангардом, пока он не исчез в овраге, через который извивалась ведущая к реке дорога. Теперь он был в безопасности: через десять минут все будут уже на берегу, через полчаса успеют усесться в лодки и будут в безопасности на серой воде. Что касается нас, остающихся на берегу, то, конечно, мы могли дольше выдерживать натиск, но как долго — этого никто не мог сказать. Я сделал последние распоряжения. Потом мы остановились на дороге и стали ждать.
Пошёл снег, падавший тихо и медленно. Отлично. По крайней мере, тем, чей час уже настал, будет мягче лежать, и их могила будет красивее под этим безукоризненно белым покровом. Я сам ждал для себя такой могилы. Хотя лошади будут топтать мой труп, но следы их копыт будут незаметны под хлопьями снега. Мои заблуждения и преступления будут навеки похоронены под этой густой пеленой. Вечен и глубок будет мой сон. И весной, когда дорогой