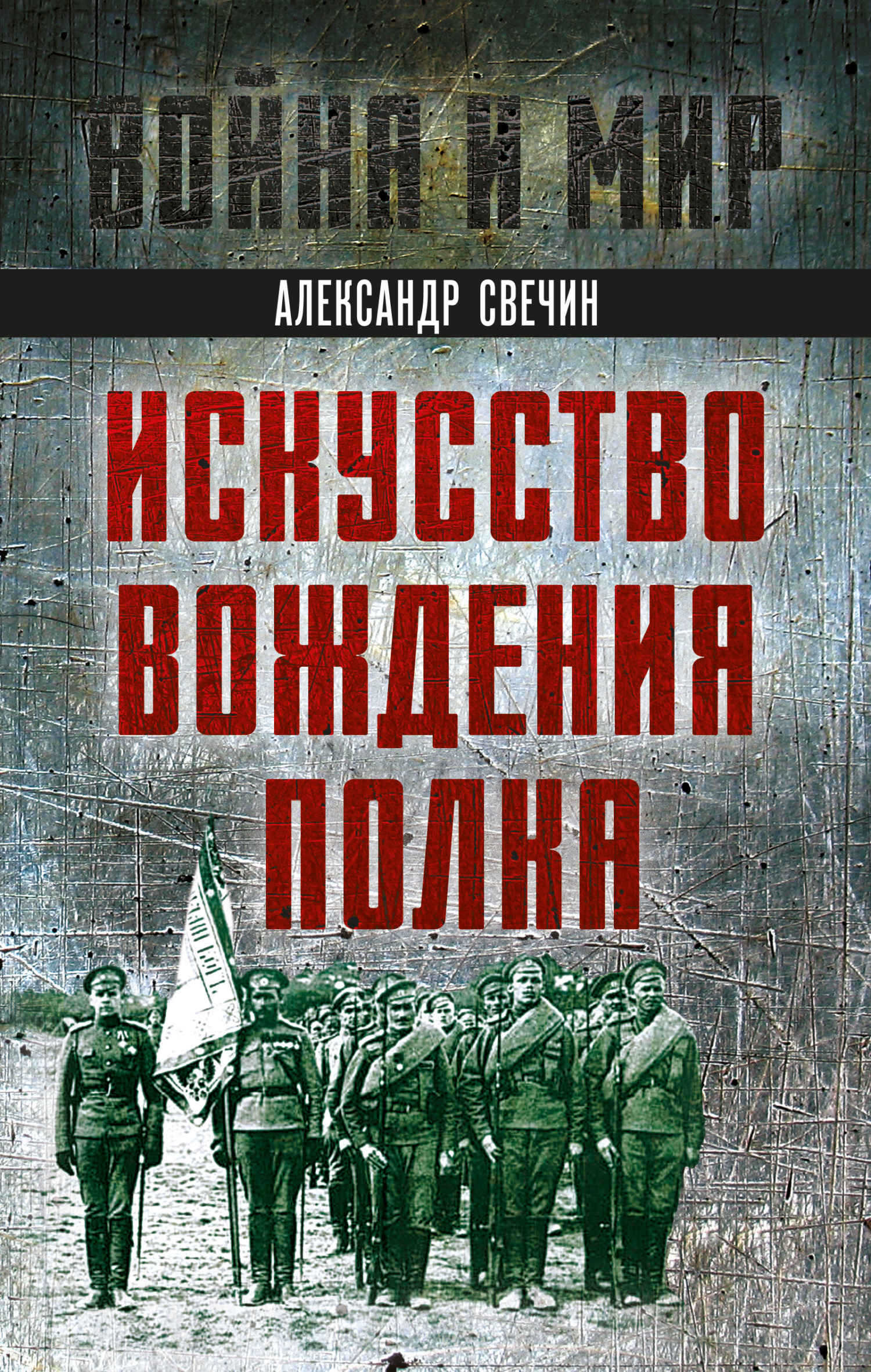Шрифт:
Закладка:
Легендарный «Диверсант» Анатолия Азольского давно признан безусловной классикой жанра, а снятый по мотивам романа телесериал по праву считается одним из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Эта книга продолжает и развивает тему, позволяя взглянуть на тайную войну спецслужб с другой стороны, глазами асов гитлеровской контрразведки. 1943 год. Пока абвер охотится за диверсантами, получившими задание ликвидировать «любимца фюрера», немецкий агент готовит покушение на Иосифа Сталина. Кровь за кровь! Берлин против Москвы! Вильгельмштрассе против Лубянки! «Волкодавы» Третьего Рейха против советского спецназа! Антидиверсанты Гитлера против ликвидаторов Сталина! Беспощадная схватка спецслужб, в которой все средства хороши и где человеческая жизнь не стоит ни гроша! Угодив в смертельную паутину заговоров и тайных операций, запутавшись в ней, словно в колючей проволоке, не надейся вырваться из этого капкана живым!
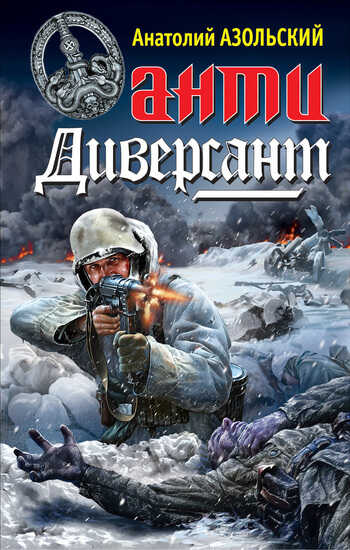
![Нора [сборник] - Анатолий Алексеевич Азольский](/uploads/posts/books/9723/9723.jpg)