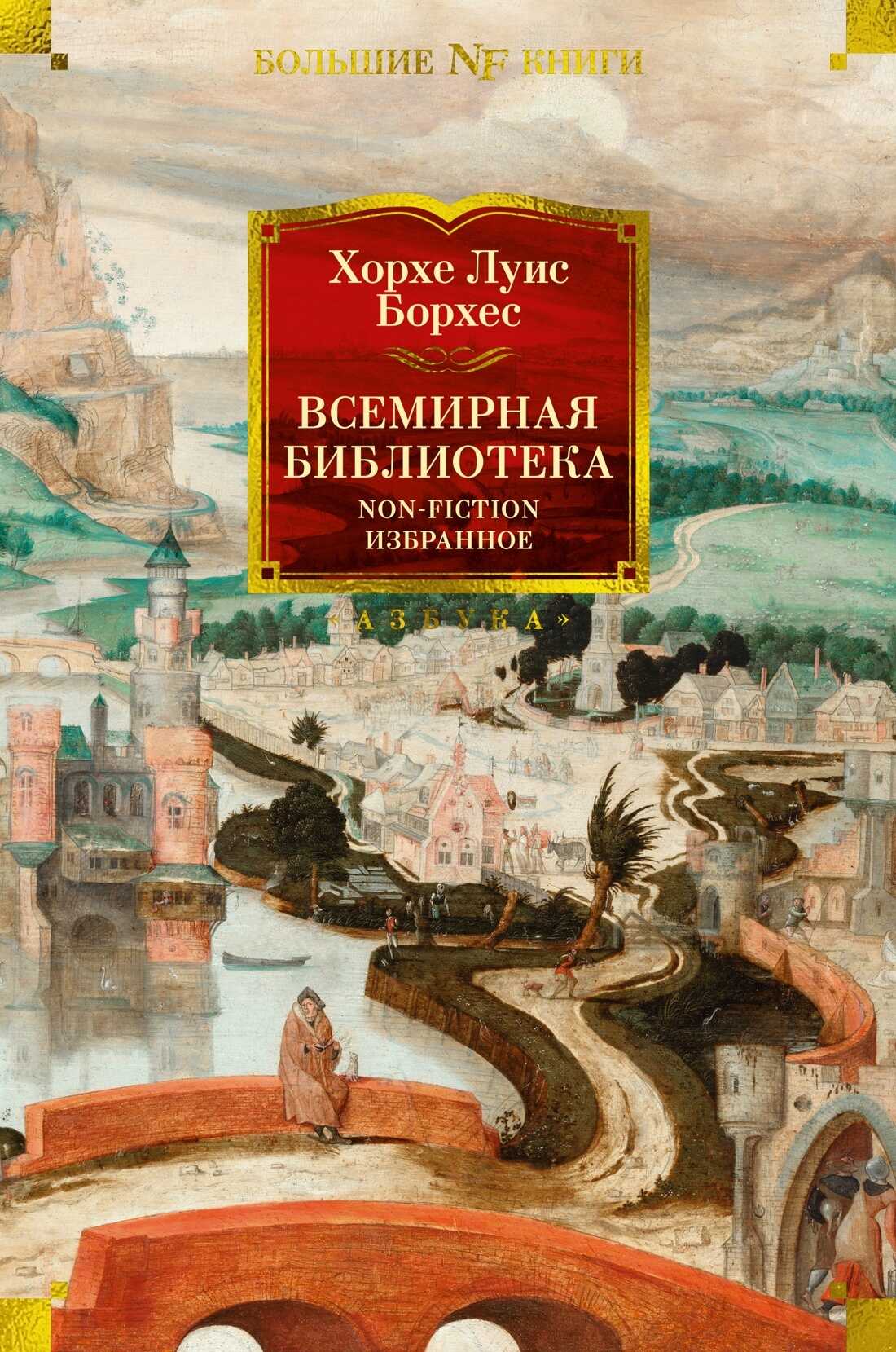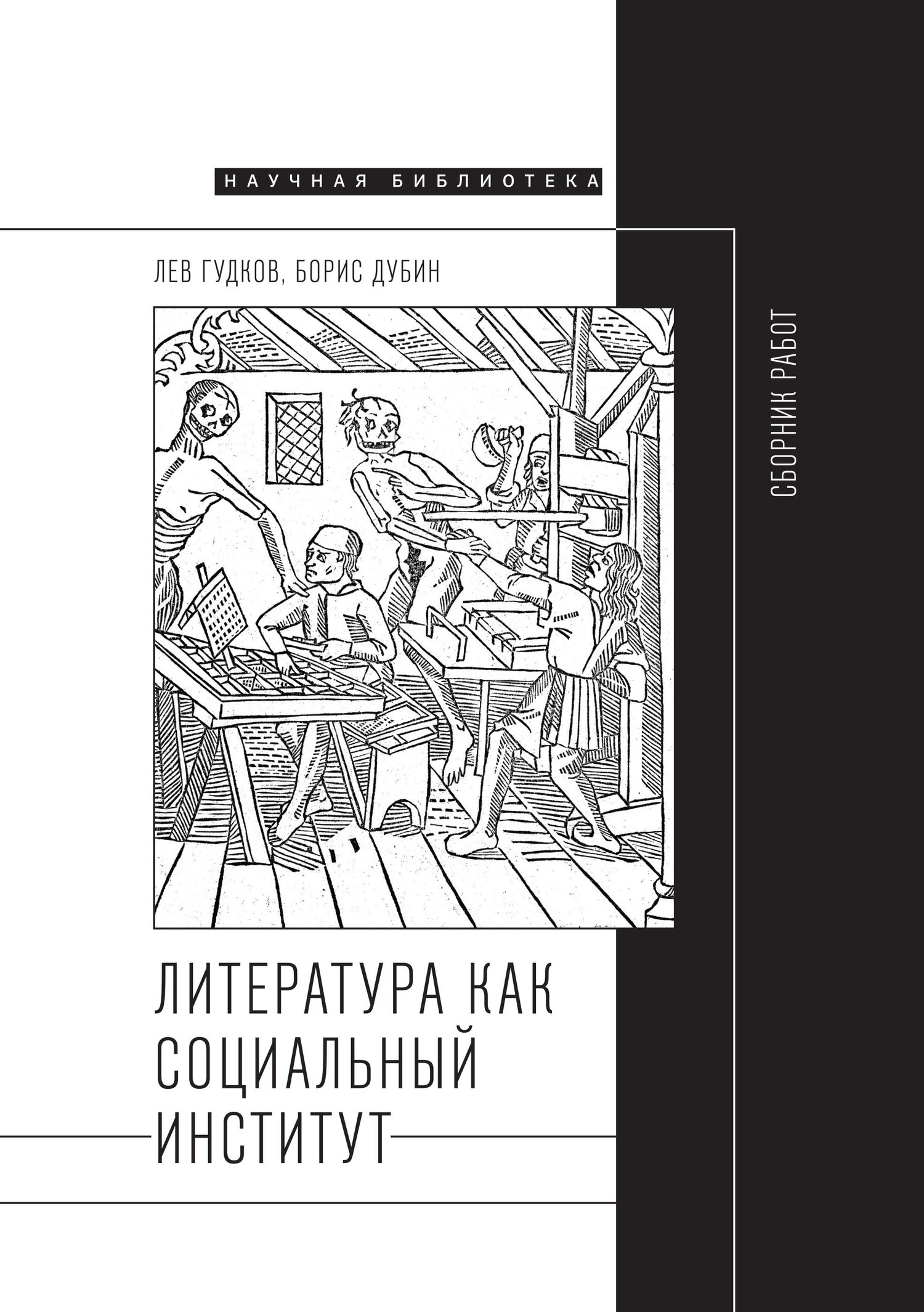Шрифт:
Закладка:
Хорхе Луис Борхес – один из самых известных писателей XX века, во многом определивший облик современной литературы. Большую часть наследия великого аргентинца составляет нехудожественная проза: более тысячи страниц эссе, рецензий, очерков, предисловий, лекций, всевозможных заметок на самые разные темы. Эти произведения («интеллектуальные приключения», по словам автора) – не менее захватывающее чтение, чем художественная проза Борхеса. Подобно Алефу из его знаменитого рассказа – магической точки, из которой видно все, что происходит в мире, – тексты Борхеса стараются охватить всю вселенную: Данте и Шекспира, каббалу и буддизм, историю ангелов и историю танго, загадку времени и фашизм, обзор кинофильмов и биографию Сведенборга… В некотором смысле именно здесь проявляется истинный облик писателя, звучит его неповторимый, слегка ироничный голос книгочея и мудреца.В настоящее издание вошли тексты Борхеса, охватывающие всю творческую жизнь автора; читатель найдет здесь, помимо классических, широко известных произведений, немало рецензий, заметок, размышлений и эссе, никогда ранее не выходивших на русском языке. Тексты сопровождаются примечаниями и краткой биографией Борхеса.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.