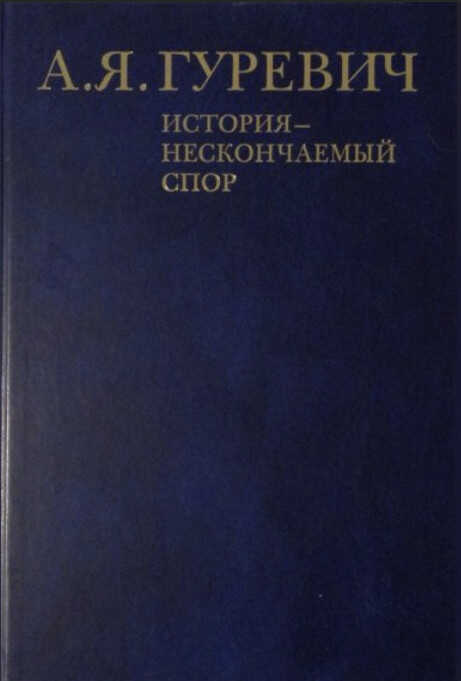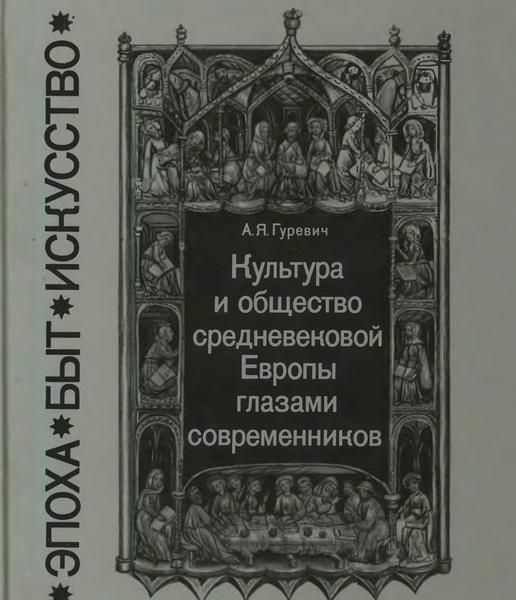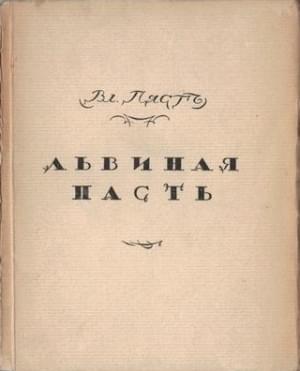Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу известного ученого-медиевиста вошло около 40 статей, посвященных разным проблемам средневековой истории — от отношений собственности и социального порядка до проблем культуры, религиозности и ментальностей. Статьи отражают стремление автора понять смысл средневековой эпохи как противоречивой целостности.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Арон Яковлевич Гуревич»: