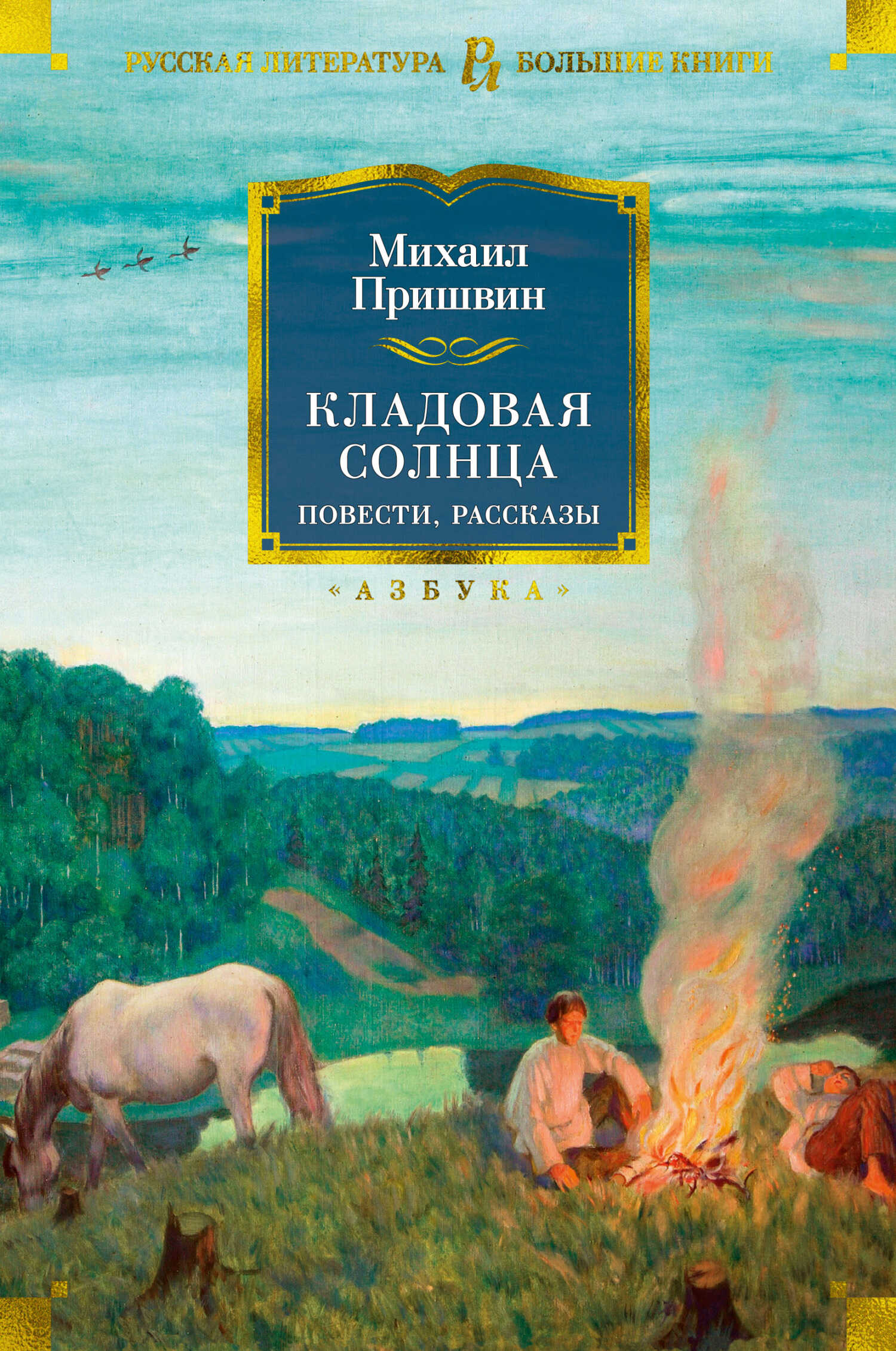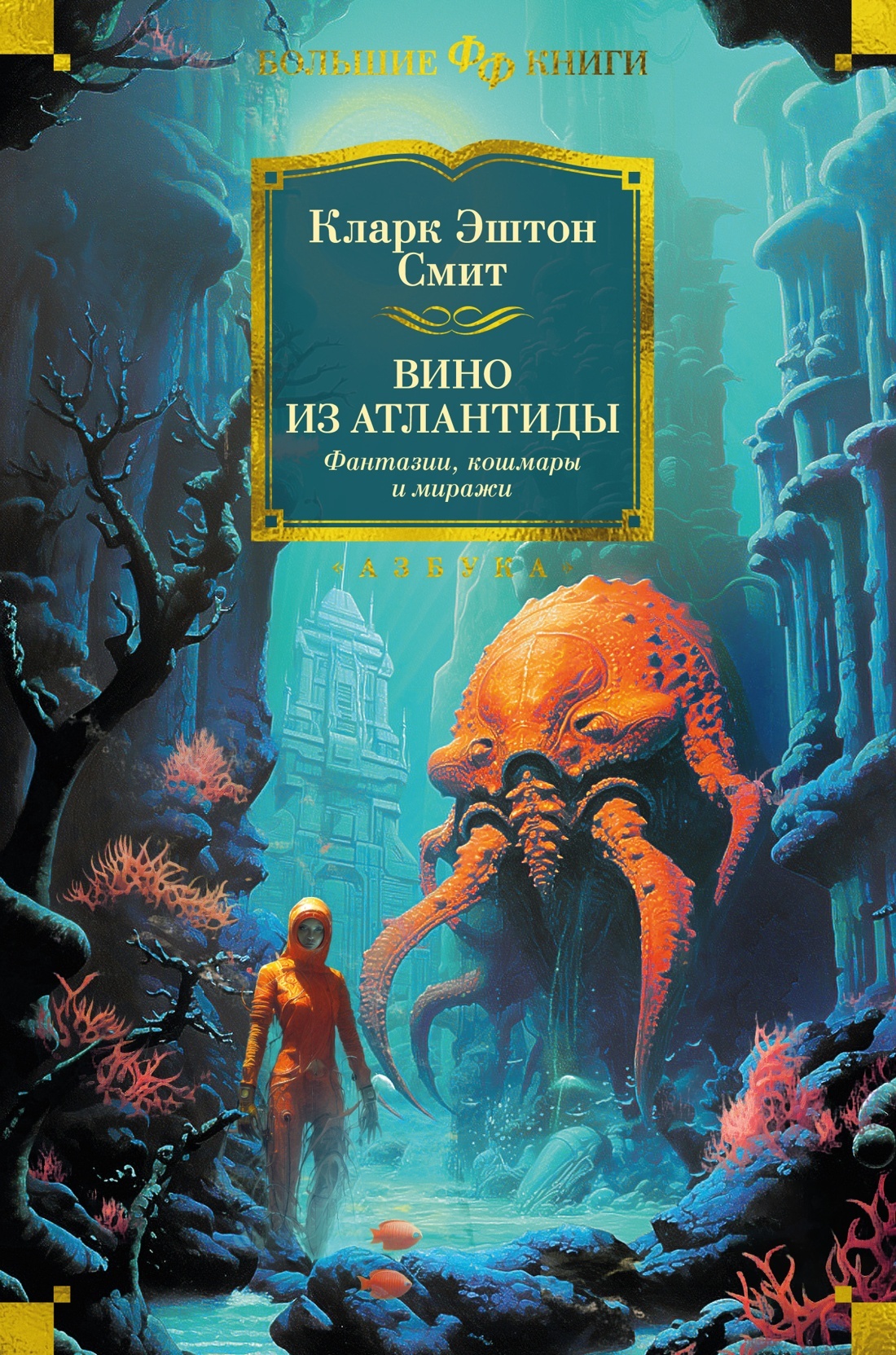Шрифт:
Закладка:
Когда все успокоились, я сказал, что недавно прочитал написанную мной одну чудесную страницу. Такая это была чудная страница, что я не мог себя, столь несовершенного человека, признать ее единственным автором, и во мне поселилось такое чувство, будто со мной кто-то работал над этой страницей.
– А теперь, – сказал я, – этих своих невидимых помощников вижу перед собой: это были, конечно, вы, собравшиеся здесь.
На моем юбилее умный редактор «Пионерской правды» сказал: «Пришвин весьма тактично проповедует среди молодежи коммунизм».
Вспомнил, что на юбилее меня раза три назвали «знаменитым», но я этому искренно не поверил. Может быть, даже начинает теряться к этому аппетит.
И какое это великое счастье иметь возможность в любой час нащупать ключик в кармане, подойти к своему гаражику в Москве, самому без свидетелей сесть за руль, и укатить куда-нибудь в лес, и там в общении со своими невидимыми помощниками карандашиком в книжку отмечать ход своих мыслей, и с восторгом иногда их рождать, и оставаться с чистой совестью.
Тоска
Смертельная тоска иногда, очень изредка, навещает меня: хочется или разрядиться в безумном бешенстве, или же уничтожить себя. Так я еще мальчиком разрядился в Елецкой гимназии на Розанова и вылетел из гимназии. А разрядка в себе кончается вот этой смертельной тоской.
Но меня от безобразной выходки всегда удерживает память о прошлом: я знаю по опыту, что смертельная тоска кончается ликующей радостью жизни.
В этой борьбе и рождается мой теперь известный всем «оптимизм».
Весна смотрит в окно
Окно с утра непроницаемо-матовое, и по матовому сверху устремляются вниз капельные ручейки, и сквозь них блестит золото наступающего дня весны света.
Пусть же нельзя мне туда, пусть там царствуют. Я знаю, меня там не забудут, и до меня это дойдет, и тоже поднимет, и унесет куда-нибудь и меня.
Начало писательства
Вчера опять начал писать своего «Царя» и опять верю, что на старости лет достигну мечты всей своей жизни – написать о мальчике в «краю непуганых птиц». С этим мальчиком началась вся моя письменность. Я тогда в 1905 году напечатал первый свой рассказик «Дедок» в журнале «Родник». После этой удачи я задумал по совету Н. Е. Ончукова поехать на Север на Выгозеро. У редактора Альмедингена в «Роднике» я попросил денег на поездку.
– Я напишу вам, – сказал я, – о мальчике, попавшем на Север, и так опишу Север в приключениях мальчика.
– Нет, – ответил Альмединген, – напишите просто очерки Севера.
Я послушался и с тех пор вот сорок пять лет никогда не расставался с этим мальчиком и все не мог написать.
Вся детская моя литература возникла на этой почве, а может быть, даже и охотничья. По-видимому, этот мальчик живет у меня в душе, и скорей всего это я сам и ношу его в себе, как беременная женщина. В этом вынашивании мальчика и есть все, чем я богат.
Поздравление
Ходили к портному заказывать охотничью куртку.
– Еще охотитесь? – спросил портной. И через некоторое время. – Ах, я забыл вас поздравить с семидесятипятилетием.
– Нашли с чем поздравлять!
– А как же? – вытаращил он глаза.
Если бы только он понимал, какую ценность имеют эти годы у людей достаточно здоровых и с ясным сознанием. С чем поздравляет! С этим бы поздравил! Но увы! Они поздравляют, только пользуясь газетой.
Инвалид
Доктор рекомендовал мне понимать себя не как полноценного здоровьем человека, а скорее как инвалида второй группы. Я согласился вести себя как инвалид, но писать как полноценный.
– А затем я и предложил вам инвалида, – ответил он, – чтобы вы лучше писали.
Колодец души
До того я привык иметь дело со своею душой и прямо доставать из нее все, как ведром из колодца, что, когда начинается моральный спор возле меня с учеными ссылками на авторитет, я теряюсь и умолкаю, чувствую себя необразованным.
Путем такого молчания, скромности и работы черпания ведром из своей собственной души я и достиг себе долголетия.
Художник
Очерк не пошел. И слава богу: не все же в кон, можно и за кон. А то был бы я пирожник, а не художник.
Апрель
Солнечное утро, чуть морозит, и совершенно тихо. Покойно бывает на душе, когда весной под вечер на кремовом небе голубой дым, набегая из труб столбами, поднимается вверх, наверху он расходится, образуя под небесным сводом колонны.
Я уезжаю
Ночь прошла без мороза, с утра тепло, и столько солнца, и такая там где-то на воле ликующая радость! Решено, что пусть грипп, все равно я уезжаю: невозможно терпеть и отдавать свою жизнь ни за что.
Был долго в лесу. Понял, что весна запоздалая: благовещение переездили. Река спит и подплывает. Луга за рекой пестрые. В лесах глубокий зернистый снег. Живут только лесные опушки, на них снег стаял, и на прошлогодней зеленой бруснике остался прозрачный ледяной черепок.
Река выделяется умытым своим льдом и лежит, как огромный самолет: одно крыло черное – низменный берег, другое белое – высокий лесной берег, заваленный снегом.
Две полевые покатости сошлись одна с другой, и посредине бежит в реку весенний ручей. Медленно сползает белая шуба зимы.
Тепло, вода сбегает. Полная река быстро уносит редкие льдины, ничего уже не значащие для победившей весны.
В лесу больше темного, чем белого. Зацветает орешник своими золотыми сережками. Угрев на поляне снежной, как в горах на снегу. Поют зяблики. Последние льдины как будто проспали ледоход, проснулись, опомнились – и догонять, но где тут! Все давно прошло.
На лесной опушке возрождалась жизнь, поднимались из хлама лесного разогретые солнцем бабочки-лимонницы, порхали, зяблики схватывались в воздухе, падали, бегали по земле друг за другом.
Я совершенно один сидел на пне, и мне радостно было, что никто не видит моего утомления, моего кашля, не чувствует моей больной поясницы и сам я могу все это сбросить с себя так, что оно не мешает мне мечтать, сочинять и только шуршит, как старая