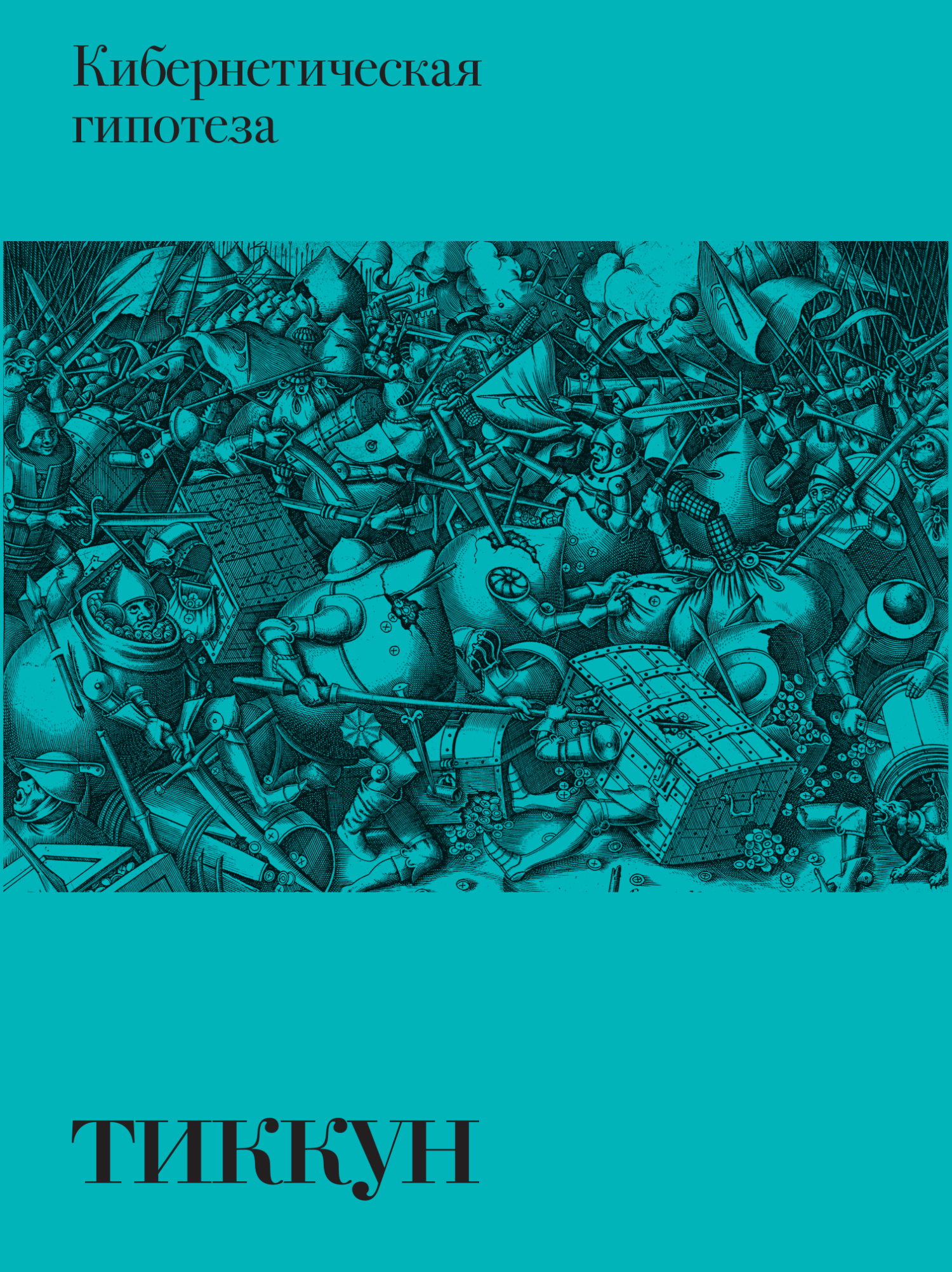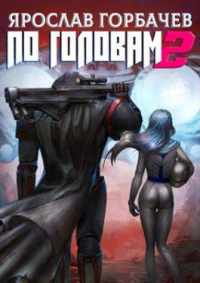Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Последняя, шестая книга из серии работ французского философского коллектива "Тиккун". "Кибернетика – автономный мир механизмов, смешавшихся с капиталистическим проектом как проектом политическим, огромная «абстрактная машина», сложенная из двоичных машин на службе Империи".В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Тиккун»: