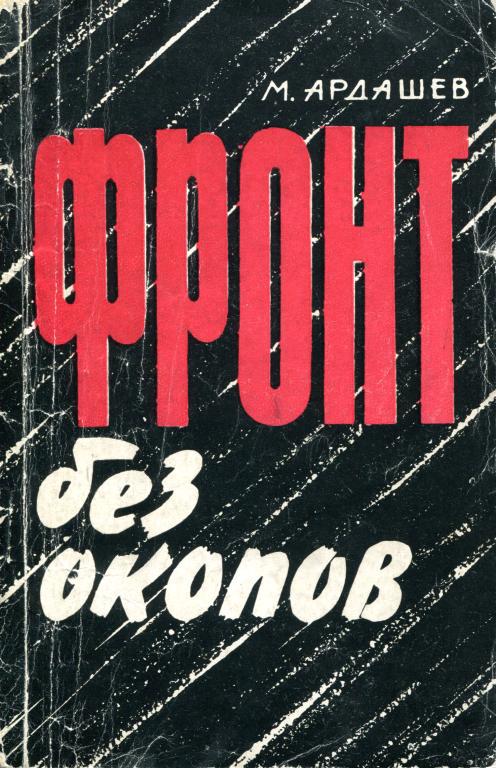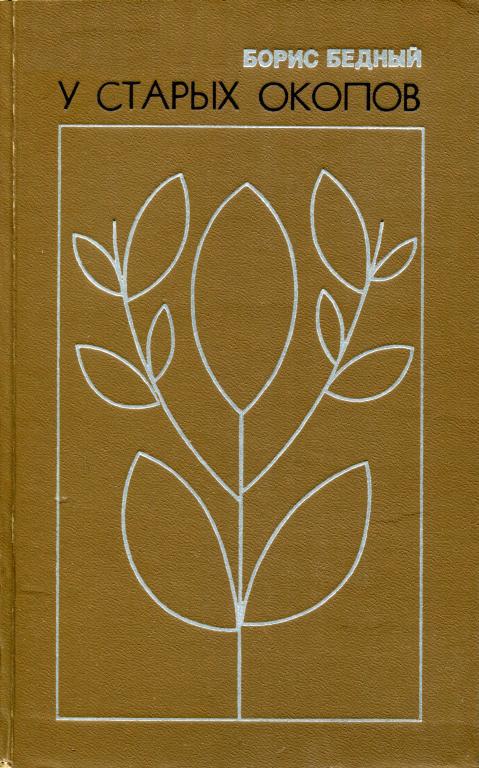Шрифт:
Закладка:
Нынешняя спецоперация России на Украине постепенно приняла характер войны цивилизаций. Независимо от того, кто на каждый конкретный момент одерживает успехи на поле боя в степях, лесах и городах Украины, судьба цивилизаций решается на высоком историческом уровне. И это — надолго. Ибо это — война на выживание. Победитель получает всё. Проигравший всё теряет. И именно в такое время принципиально важно понять даже не то, откуда взялась и как началась эта война, а то, почему она разразилась на территории некогда общей страны некогда единого народа, сыны которого ныне ожесточённо сражаются друг с другом. Почему так? Откуда к нам пришло именно такое противостояние? Эта книга даёт один из главнейших ответов на этот вопрос: корни СВО лежат глубоко в истории, но людей развели по разные стороны события 2014–2015 годов в Донбассе. Судьбу цивилизаций люди начали решать ещё тогда. Собственными судьбами и жизнями… Книга написана на основе реальных событий.