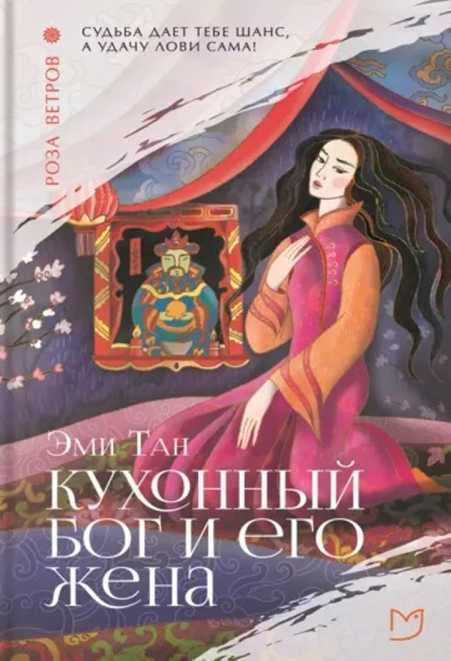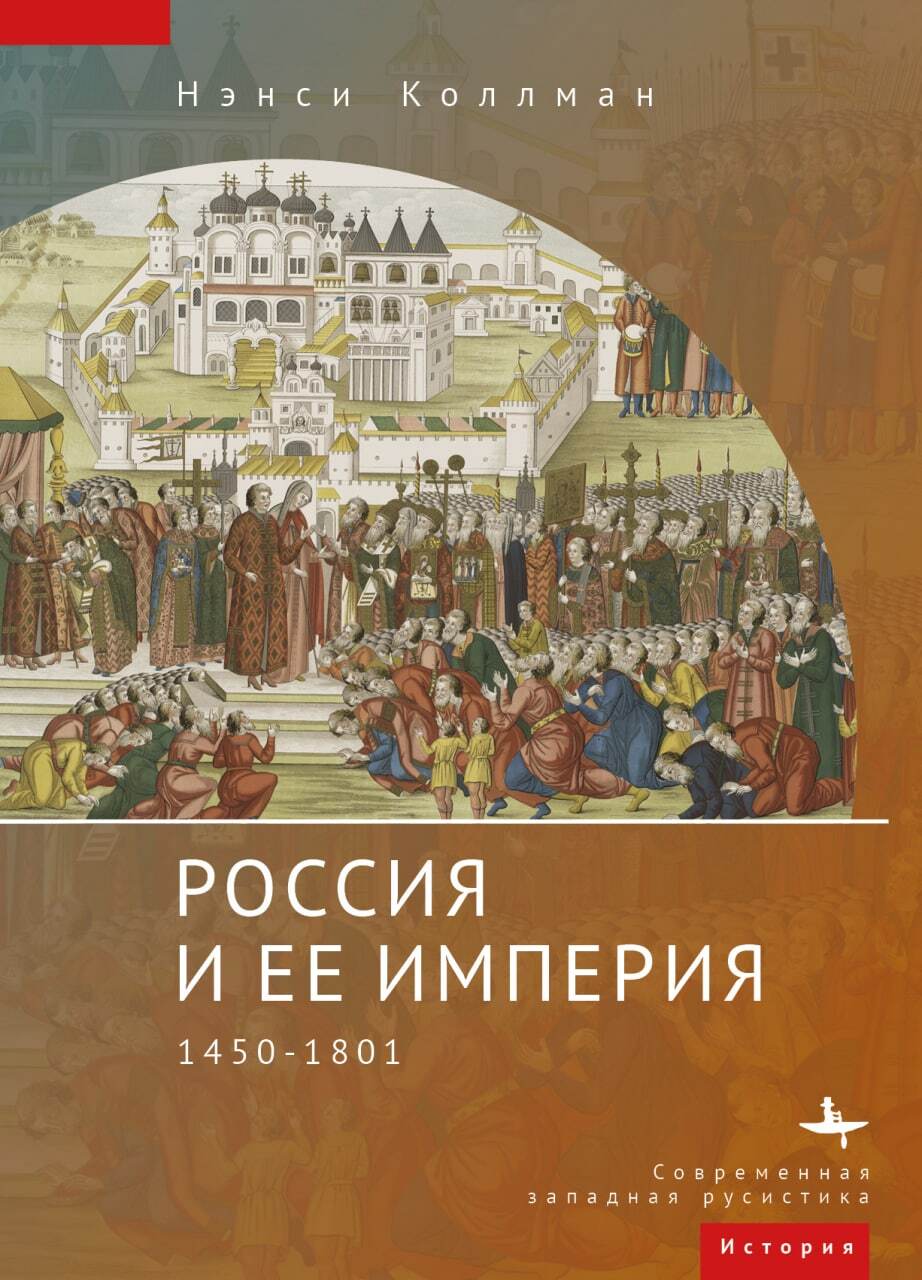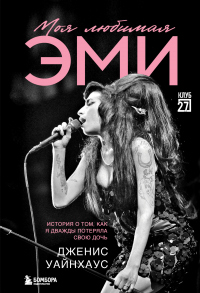Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перл, молодая американка китайского происхождения, серьезно больна и всеми силами стремится скрыть этот факт от своей матери, Уинни. Но и сама Уинни хранит от дочери пугающие тайны своего прошлого. Однако настает момент, когда все секреты должны быть раскрыты — на этом настаивает Хелен, невестка Уинни, которая хочет перед смертью освободиться от бремени лжи. И мы вслед за Уинни, урожденной Цзян Уэйли, возвращаемся в Шанхай 1920-х годов, чтобы вместе с ней пройти через кошмар брака с мужем-садистом, ужасы Второй мировой войны и смерть детей, но не утратить надежды и веры в себя. Второй роман прославленной американской писательницы Эми Тан основан на реальных событиях из истории ее семьи.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эми Тан»: