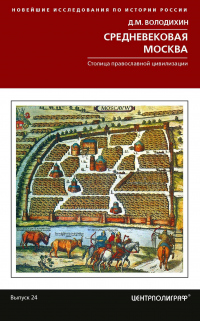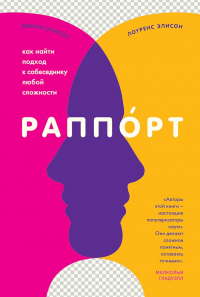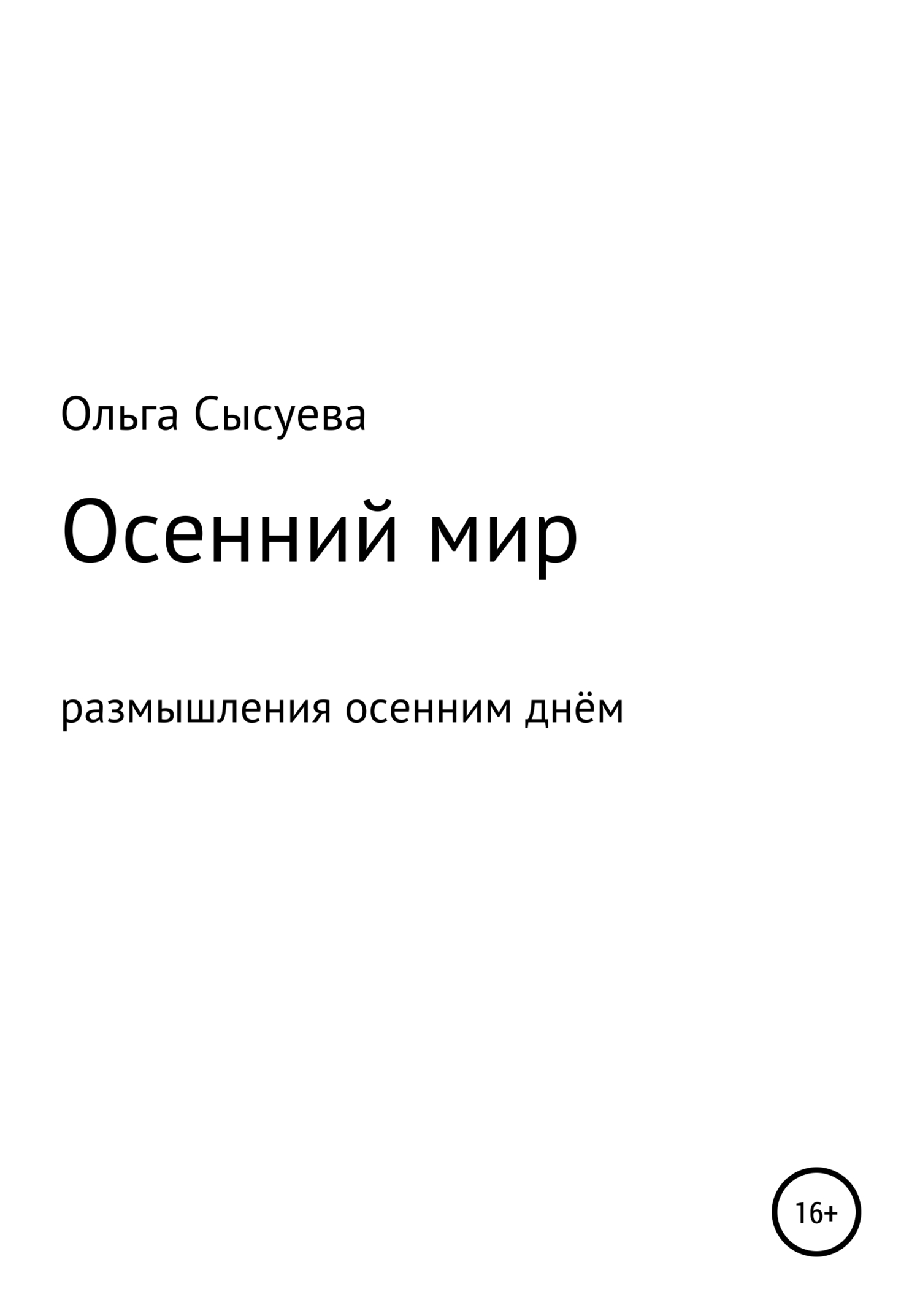Шрифт:
Закладка:
Для чего и, главное, кому нужны олигархи? Только ли для того, чтобы тянуть на себя одеяло материальных благ и возбуждать зависть неимущих? Или для службы, которая и опасна, и трудна? Кто они, от кого произошли и на какие подвиды делятся? А нефть, главный источник олигархического баблополучия, — все ли нам известно о ней? Может ли она закончиться? И всегда ли она была такой — маслянистой и черной? А если она черна от горя и неизбывной тоски по утраченному слову. Кто потерял его и кто нашел, а также о том, кто восседает на лохотроне и кому уготован лохоцид, из чего состоит настоящая халява и можно ли пить из молочной реки, куда смотрит Всевидящее Око и что находится под Мамаевым курганом, — об этом и о том расскажет «SoSущее» — первый исторический роман о настоящем.