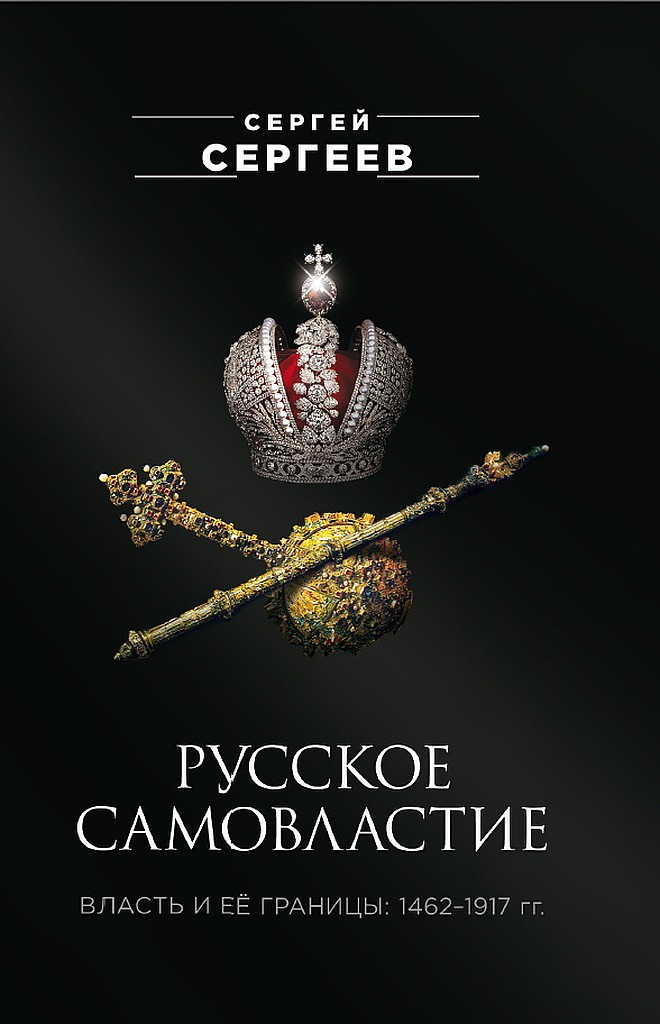Шрифт:
Закладка:
Русское самовластие. Власть и её границы, 1462–1917 гг. - это книга, которая рассказывает о том, как складывалась и развивалась власть в России с эпохи Ивана III до революции 1917 года. Автор, Сергей Михайлович Сергеев, является доктором исторических наук, профессором и авторитетным специалистом по истории России. Он анализирует, какие факторы определяли характер и формы власти в России, как она взаимодействовала с обществом, церковью, интеллигенцией, как она реагировала на внутренние и внешние вызовы и угрозы. Он также рассматривает, какие границы и ограничения имела власть в России, как она боролась за свою легитимность и эффективность, как она менялась под влиянием реформ и модернизации. Книга предназначена для тех, кто хочет узнать больше о российской истории, политике и культуре.
Если вы интересуетесь этой темой, вы можете читать эту книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Это удобный и надежный способ получить доступ к большому выбору книг по истории России и других стран. На сайте вы сможете не только читать книгу онлайн, но и узнать больше об авторе, его научных работах и публикациях. Вы также сможете почитать отзывы других читателей, сравнить свое мнение и оценку с ними. Читайте книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и пусть ваша жизнь будет полна знаний!