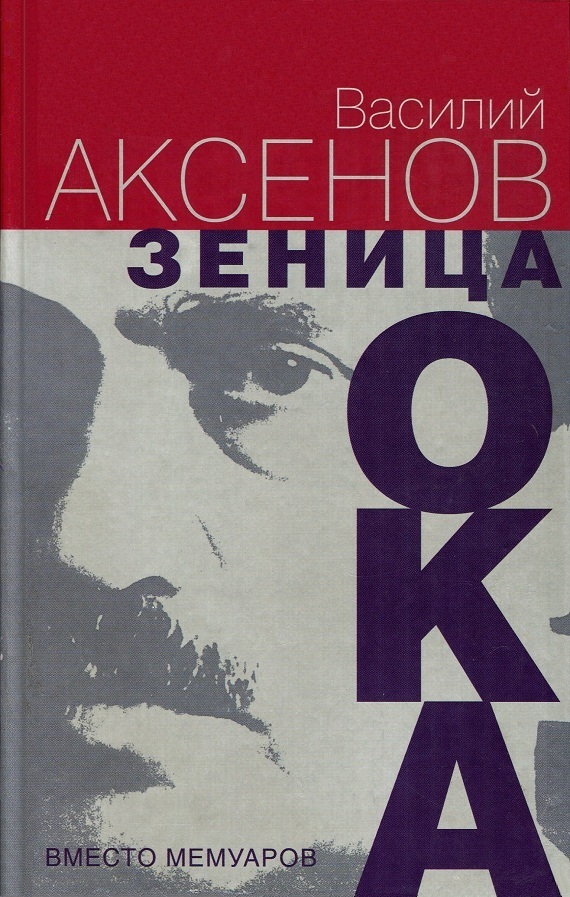Шрифт:
Закладка:
Описанные в романе события происходят в 1883 году в исландской глубинке. В сюжете неожиданным образом переплетаются судьбы трех героев: Фридрика, когда-то учившегося за границей в Дании, Аббы – девушки с синдромом Дауна, которую нашли на судне, потерпевшем крушение у берегов Исландии, и священника Бальдура Скуггасона – большого любителя лисьей охоты. Несмотря на легкость повествования и некоторый налет сказочности, книга затрагивает проблемы человечности сегодняшнего общества.Сьон (р. 1962) – исландский поэт, прозаик, драматург, сценарист, переводчик. Лауреат Литературной премии Северного совета (2005) за книгу «Скугга-Бальдур», Исландской литературной премии (2013), кавалер ордена Искусств и изящной словесности Франции (2021). Известен как автор текстов к песням Бьорк, был номинирован на премию «Оскар» (2001) как соавтор ее песни к фильму «Танцующая в темноте». «Скугга-Бальдур» (2003) – пятый роман Сьона, переведен на 35 языков. Русский перевод был номинирован на литературную премию «Ясная Поляна» (2019).