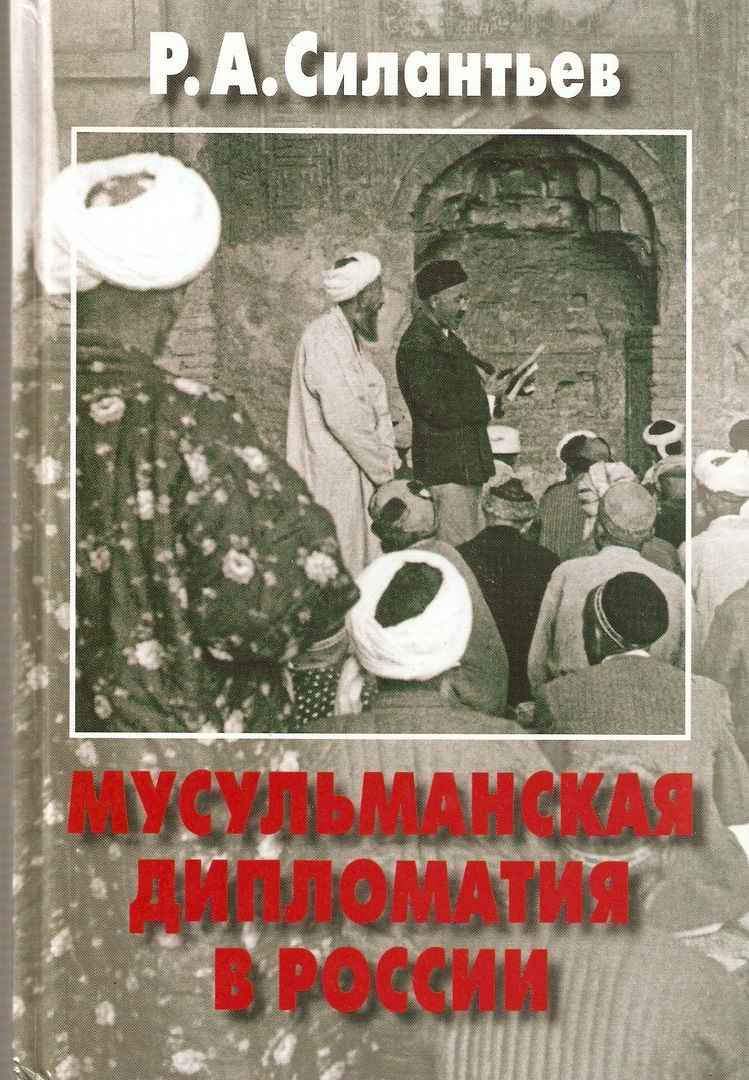Шрифт:
Закладка:
Книга антрополога и теоретика культуры Светланы Бойм (1959–2015) – переработанное и дополненное английское издание 1994 года – представляет собой попытку критического анализа мифических представлений, которыми скреплялся повседневный быт России ХХ столетия. Темы ее глав – специфические понятия советской культуры («быт», «мещанство», «русская душа»), социально-психологические отношения в коммунальной квартире, питающиеся этим материалом художественные стратегии современной литературы и искусства. Последние главы книги посвящены постсоветской идеологической ситуации 1990-х годов, с такими ее характерными чертами, как превращение «стеба» в господствующий стиль культуры или же ностальгия по советской «великой эпохе». Опираясь на современную западную теорию повседневной жизни, С. Бойм написала книгу в жанре заинтересованных, темпераментных эссе, включающих и личные переживания автора, и прямые публицистические суждения.