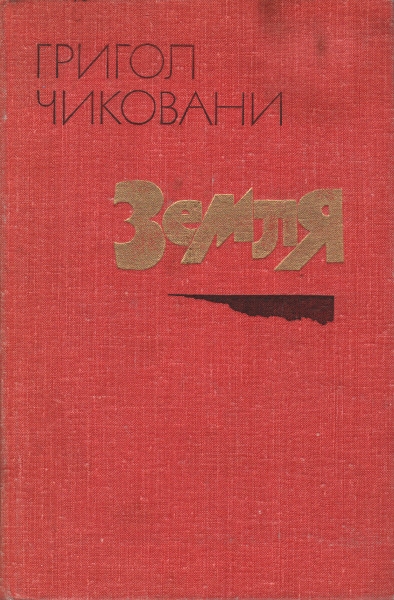Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Григол Чиковани принадлежит к старшему поколению грузинских советских писателей. Он — автор многих рассказов, повестей, романов. В переводе на русский язык опубликованы «Одишские рассказы» («Советский писатель», 1964), сборник «Вадилаи-Вадилла» («Художественная литература», 1972), куда вошел роман «Февраль». Роман «Земля» — вторая книга трилогии, посвященной бурным революционным событиям, установлению советской власти в Грузии, трудовому подвигу советского народа, осваивавшего заболоченные земли Колхиды. Герои романа «Земля» — сильные и отважные люди, со щедрой душой, верные в дружбе и любви.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Григол Самсонович Чиковани»: