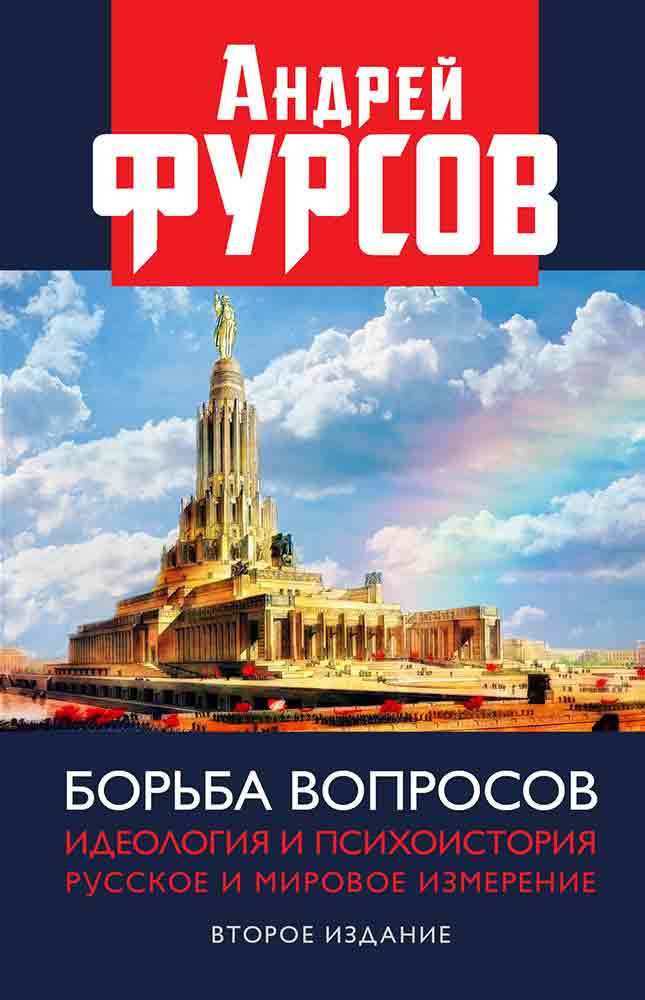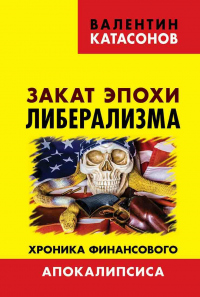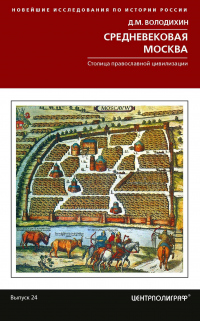Шрифт:
Закладка:
Столетие Великой Октябрьской социалистической революции не только заставляет нас оглянуться с интересом на «короткий» XX русский век (1917–1991), но и задуматься над тем, почему провалился великолепный социальный эксперимент по построению социализма в отдельно взятой стране – СССР.Был ли в корне неправ Маркс со своим пресловутым «Капиталом»? Или его задумка была верной, вот только подвели последователи-практики: Ленин, Троцкий, Сталин? А, может быть, коммунизм прошел отведенный ему Историей путь и скончался своею смертью – от внутренних противоречий? Или коммунистическое будущее человечества похоронили предатели, глупцы и маразматики в позднем советском руководстве?В новом издании книги кандидат исторических наук Андрей Фурсов дает ответы на эти вопросы. Ответы неутешительные, жесткие, честные, ставящие перед читателем новые вопросы: о будущем человечества и его, читателя, роли в свершающейся на наших глазах очередной пересдаче карт Истории.2-е издание, дополненное