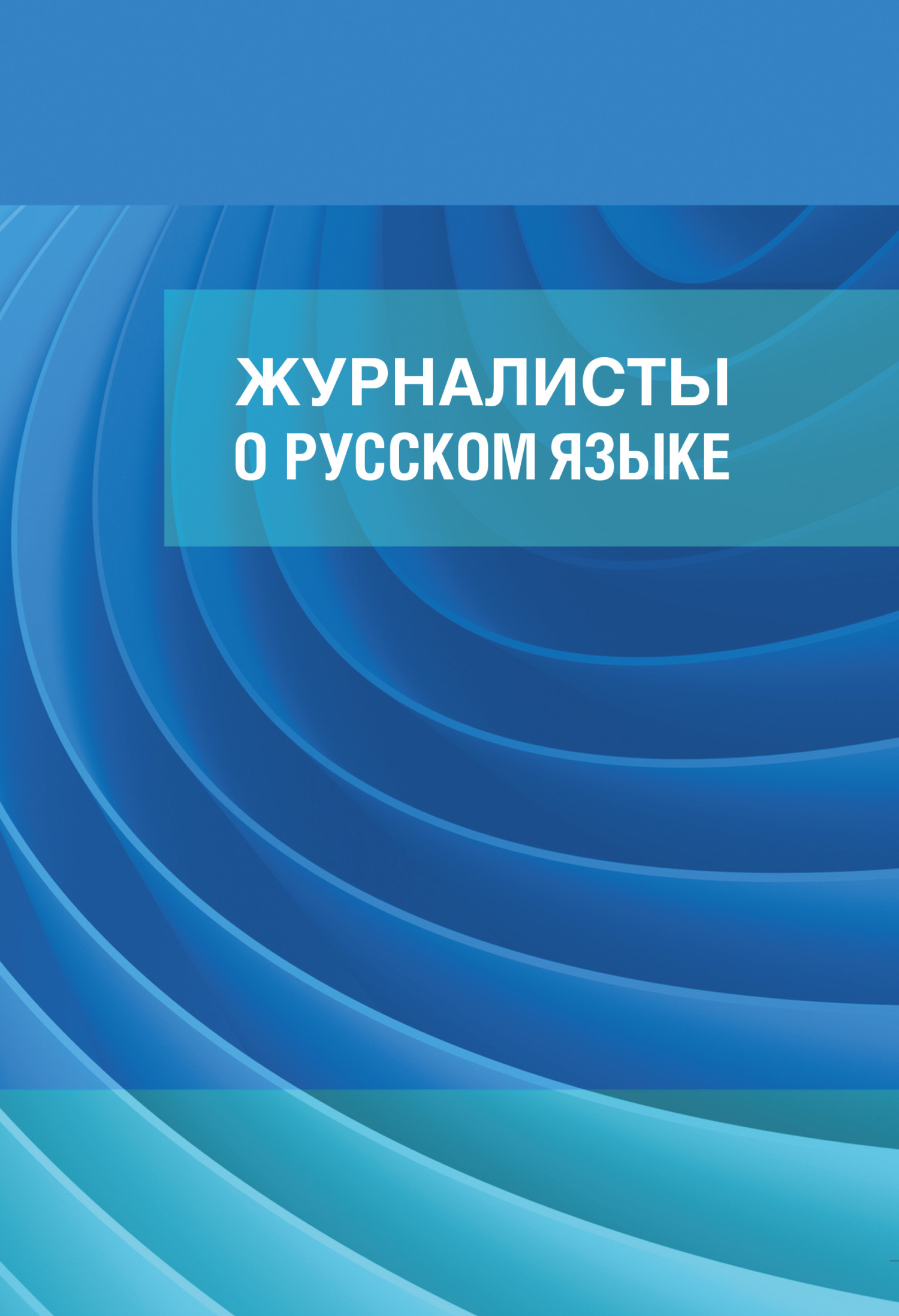Шрифт:
Закладка:
Любовь - одна из самых сложных и загадочных тем для человечества. Каждый человек пытается понять, что такое любовь, как она возникает, как она меняется, как она влияет на нашу жизнь. Каждый человек имеет свою историю любви, свои радости и страдания, свои надежды и разочарования.
Эта книга - сборник микроновелл, коротких рассказов о разных аспектах любви. Автор Режис Жоффре показывает разные ситуации и персонажи, которые сталкиваются с любовью в ее разных проявлениях: романтической, дружеской, семейной, платонической, эротической, запретной, несчастной и т.д.
Каждая микроновелла - это миниатюра, которая заставляет читателя задуматься, почувствовать, посмеяться или погрустить. Каждая микроновелла - это отражение нашей собственной жизни и наших собственных чувств. Каждая микроновелла - это ответ на вопрос: что такое любовь?
“Что такое любовь и другие микроновеллы” - умная и трогательная книга, которая позволит вам увидеть любовь в ее разнообразии и красоте. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и наслаждаться этими замечательными историями.