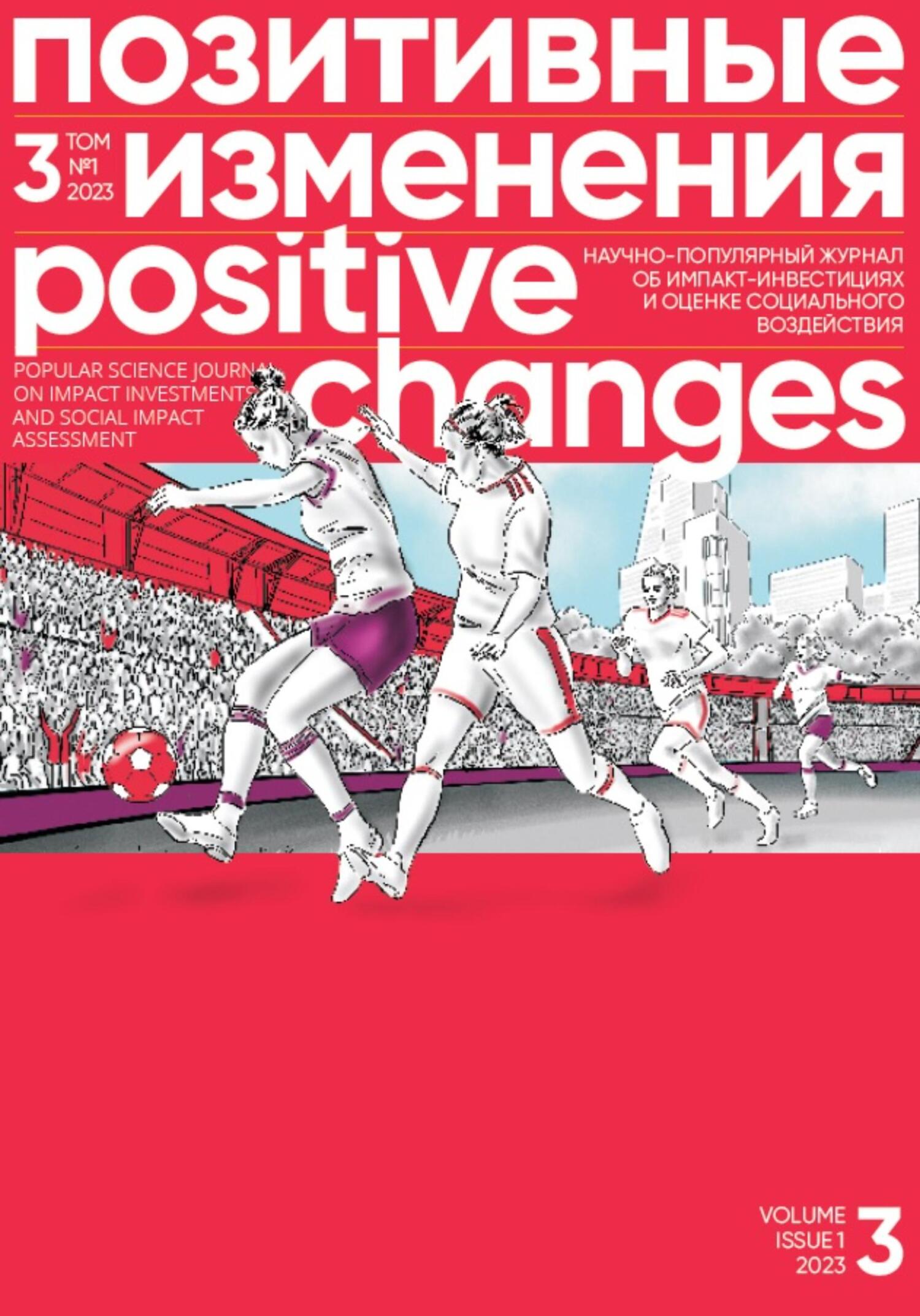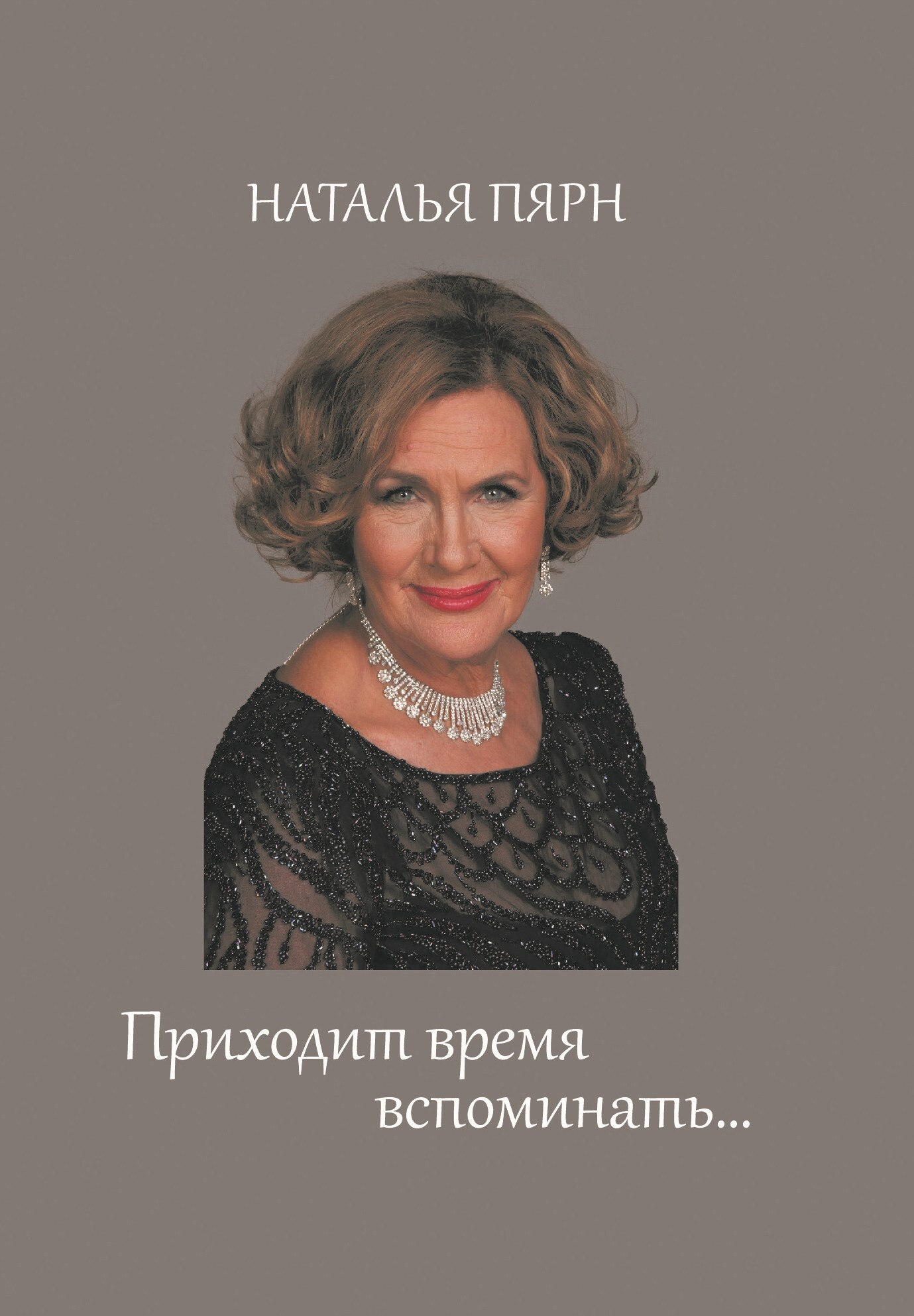Шрифт:
Закладка:
Клацают стертые мышки собачек Павлова – живущих, чтобы работать. Трещат допотопные клавиатуры. Трубки поднимаются и опускаются. Заученные по ГОСТу ответы произносятся с плохо скрываемой злостью. Юрисконсульты организации подают в инспекцию на саму организацию.
Все идет своим чередом.
Кроме одного.
Буквально за пять минут до обеденного перерыва я получаю выговор.
– Это ваша обязанность! – надрывается начальница. – Ежеутренняя! Бордовый квадратик на календаре передвигать! Какое сегодня число, коллега?! А?! А?! Какое?! Вы мне тут глазками не хлопайте! Дурочку-первоклассницу не изображайте! Вы должны осознавать, что ваша халатность может привести к ошибкам в документах! К проигрышам в судах! К штрафам! Повторяю – к штра-а-фам, упаси нас Всевышний! Вы это осознаете?! А?! А?! Осознаете?! А?!
Десны ноют. Ноют ребра. Виски в тисках. До боли стиснув зубы, я осознаю, что вот-вот вскочу с места и заколю эту суку шариковой ручкой.
Забью дыроколом.
Прирежу линейкой.
Скальп сниму канцелярским ножом.
Выдрав с корнем провод, вмажу стационарным телефоном и отправлю в нокаут.
Весь яд скопившийся кешбеком верну.
Лишь бы она рот свой закрыла.
– Безответственность! Без-от-вет-ствен-ность! В полной ее красе! И почему я не удивлена?! И почему вы молчите, коллега?! Почему не отвечаете?! Отвечайте за свои проступки! Отвечайте! Отвечайте!
– Заткнись! – срывая предохранительный клапан, отвечаю я.
И со всех ног несусь успокаиваться в туалет. И остужаю щеки смоченной в болотной водице салфеткой. Дрожу. Дрожу. Пульсирую. Думаю: ненавижу работу! ненавижу! эту! гребаную! работу! и начальницу неадекватную – тоже ненавижу!
Точно по щелчку – мышцы слабеют, обмякают.
Из правой ноздри по верхней губе в уголок рта течет теплый ручеек.
Жмурясь от истошной голубизны кафеля, сажусь на крышку унитаза. Засовываю скомканную бумажку в ноздрю. Закатываю рукава. Расстегиваю рубашку, ослабляя давление на шею, теряя среди швабр и моющих средств верхнюю пуговицу. Считаю до ста двадцати трех.
Вентиляционные решетки тарахтят, колотят в подкорку: что ты здесь делаешь? что? ты? здесь? делаешь? когда эти бессмысленные, изматывающие сражения закончатся? когда компромиссы с самой собой исчезнут за ненадобностью? уговоры, несуразный торг, ежедневное принуждение: ну сходи, сходи на работу, ну потерпи немножко, пока… пока – что?
Плыву в кабинет.
Медленно. Величаво. Расправив плечи.
Сверхчеловек.
Бомба в тысячу мегатонн.
Кровавая бумажка в носу дымится. Подошвы обугливают линолеум, прожигают пол насквозь. Стенки аквариума бегут узорами трещин. Дрожат. Дрожат. Пульсируют. Чахлый купол чахлого строения вот-вот обвалится.
Тревожные взгляды, лучи мигающих люминесцентных ламп сходятся в одной области – на мне.
Одурманенной собственной храбростью.
Разнесшей в междоусобице свою тщедушную изнанку, противоправно оккупировавшую достоинство.
Выступая в роли журналиста горячей точки, с выдуманной каской и бронежилетом, я – представитель редакции имени протеста и несогласия, новорожденный корреспондент под прикрытием – захожу в кабинет. Стоя, без спешки, пишу развязку. Выгребаю из тумбочки личные вещи. Скидываю их неаккуратной кучей в пасть рюкзака.
– Что ты вытворяешь, дрянная девчонка?! – визжит начальница из оборудованного ветошью урочища. – Кем себя возомнила?! Борцом с режимом?! Мятежником?! А?! Выскочка! Заноза! Агрессор! Иуда! На, на, загребай правду, насыщайся последствиями: с сегодняшнего дня ты в опале! Да я на тебя докладную… Да я с тебя объяснительную… Да ты у меня…
– Нахер иди.
Заявление на увольнение взмывает вверх, к потолку – и, покачиваясь, приземляется четко в горизонтальную ячейку для документов.
Эффектно, черт возьми.
Нога с силой отталкивает кресло на колесиках – и папки в шкафу, издав жалкий скрип, водопадом обрушиваются на старый линолеум, на отвалившийся подлокотник упавшего стула.
Черт возьми, как эффектно.
Мое самосокращение, мой уход, мое оргазмическое удовлетворение сопровождает раскат громового молчания. Оставляя за спиной фронт боевых действий, я вдруг понимаю: вот оно, то самое чувство свободы, которое никогда уже не забыть. вот он, мой истинный путь и мое призвание – на измотанной шкуре своей испытывать то, о чем не хочется говорить в веселой компании, но о чем необходимо говорить всегда и везде, днем и ночью, не смотря на возгласы неудовольствия и угрозы расправами. Я буду писать и фиксировать. Буду стучаться в двери лучших изданий, чтобы меня приняли и услышали. вот оно, то самое. Вот же оно, то самое.
Не семнадцать тридцать.
Не темнота.
Воздух на улице не кажется прохладным и свежим. Пахнет озоном и бешенством. Тянет серным букетом дымовых шашек.
Двусторонняя ярость – тех, кто в кольчуге, и тех, кто гол, – липнет к коже, как мошкара.
Где друг? Где враг? Нужно ли вступать в строй? Самоотверженность и здравомыслие – понятия противоположные?
Траурная, безветренная серость завладевает городом, покрывает его от края до края грязным палантином. Небо-потолок обрушивается аспидным маревом на беспорядки, на лозунги, на транспаранты. Поглощает фонари и крыши высоток.
– Долой! Долой! Долой!
Будущее расплывается, точно акварель на промокшем холсте.
– Ложь! Ложь! Ложь!
Сивые кляксы. Размытые линии.
– Свобода! Свобода! Свобода!
Никаких гарантий того, что рисунок все-таки выйдет из-под кисточек многочисленных художников. У всех и каждого корчится в сердце стойкое предчувствие приближающегося п****ца.
Силы исчезли.
Исчезли силы.
Во мне – усталость, усталость, усталость.
Шарф душит. Нос не дышит. Ремень сдавливает внутренности.
Состояние мутное, в хлам обдолбанное.
Люди без глаз и без губ, с белыми пятнами вместо лиц.
Как я хотела бы, чтобы кто-нибудь из них обрел черты, чтобы кто-нибудь просто обнял меня.
Как я хотела бы оправдать себя, сообщить каждому встречному, готовому выслушать и снисходительно по руке похлопать:
это не я – чмо унылое,
это все мир, распростерший надо мною свою мглу несправедливую.
Как я хотела бы списать слабость на расстройство, синдром, зависимость от препаратов – каждый пункт объяснил бы немощность, обосновал бы ее с научной и медицинской точки зрения, вызвал бы желание посочувствовать, помочь, вытянуть. Ни один встречный не осмелился бы задать самые страшные, самые постыдные вопросы, способные выудить из закромов не менее страшные и не менее постыдные ответы: как смеешь ты, здоровая и вменяемая, стонать денно и нощно? драматизировать? вести себя так, словно у тебя под ногами земля кренится, сотрясается, расселинами множится?
Быстрей бы добраться до дома. Вдохи-выдохи шквальным вихрем отбрасывают наэлектризованные волосы. Прочь. Прочь. Изыдите.
Звуковые сигналы сеют замешательство.
Дорожные знаки не дают никаких знаков.
Полустертая разметка путает и пугает.
Сход-развал нарушен – любой шаг неверный, любой шаг ненадежный.
Роняю наушник. Тысячи ног топчут, крошат, плющат хрупкий пластик. В голове замыкает проводку. Руки, как тяжелые кабели, виснут вдоль туловища. Я останавливаюсь и плачу навзрыд, до острой икоты. По хрупкому пластику. По своим холодным ладоням. По квартире, в которой меня никто не ждет.
Да и нужно ли мне в такую квартиру? Нужно ли? Зачем я путь свой тернистый держу к ее порогу?
В бурлящем вестибюле метрополитена мальчик-калека играет на скрипке «Зиму» Вивальди.
Мимо маршируют тысячи ног.
Не нарушая общий ритм.
Как я хотела бы, чтобы кто-нибудь согрел мои пальцы, чтобы кто-нибудь просто обнял меня.
* * *Нехорошо дома. Неспокойно.
Темно и холодно, как в берлоге.
Экран телевизора слабо освещает разложенный диван, перекрученное в неровные спирали постельное белье.
Покрываясь