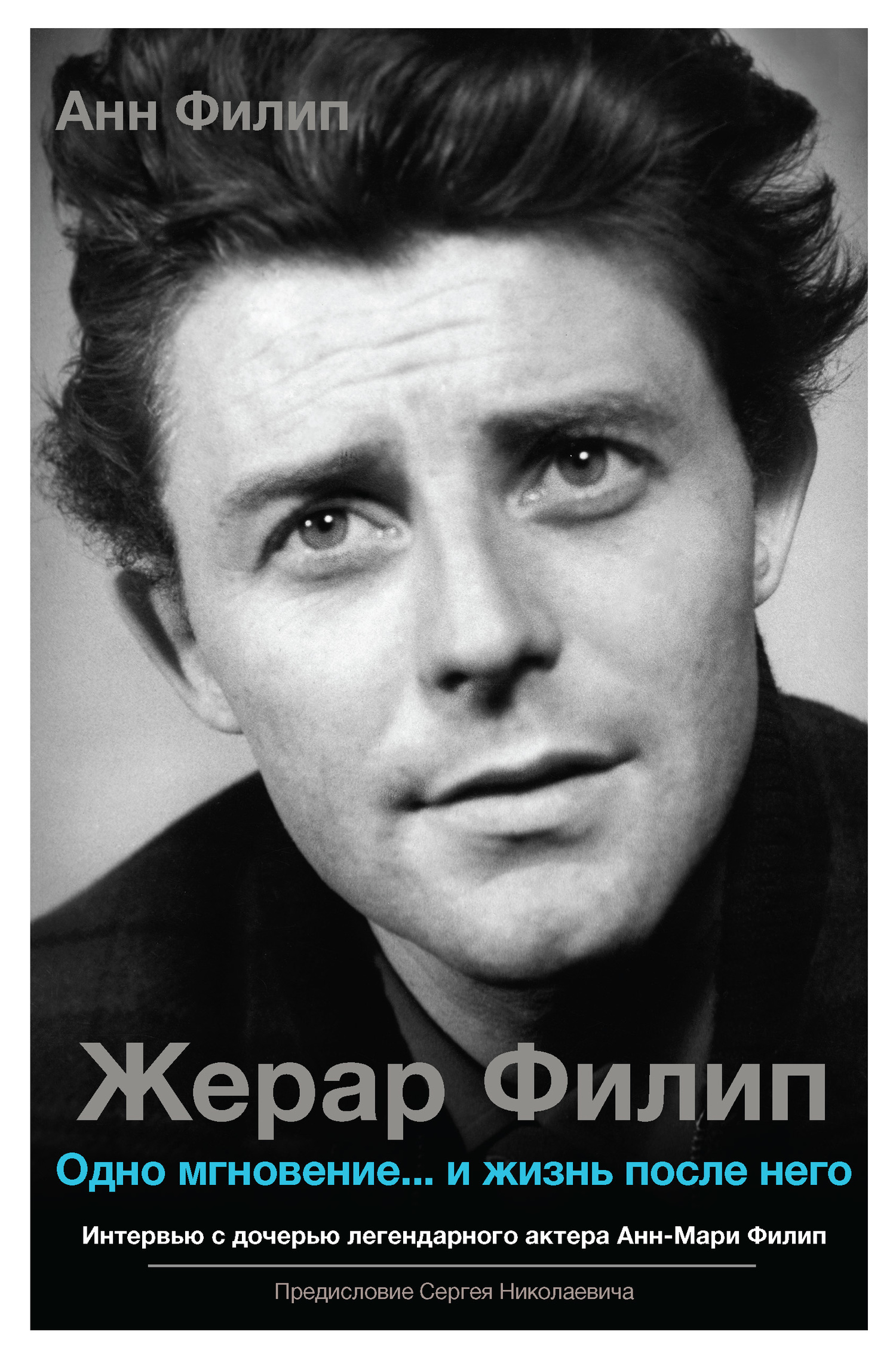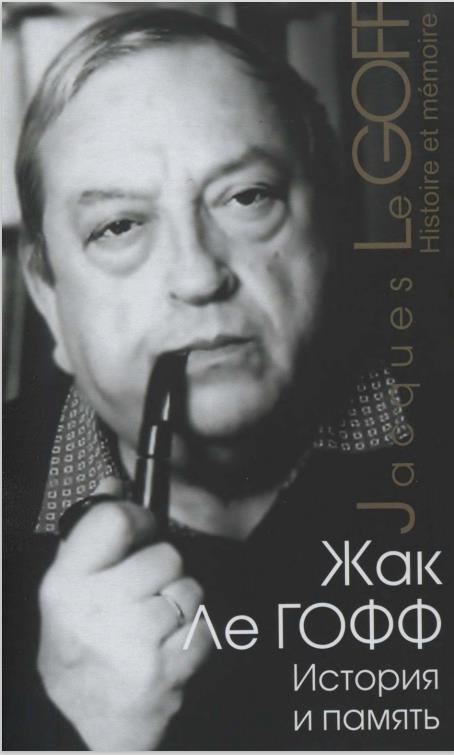Шрифт:
Закладка:
Преуспевающий топ-менеджер Антуан, медсестра Клер и успешный кинорежиссер Поль, порвавший отношения с родней много лет назад, съезжаются в дом своего детства на похороны отца. Три дня в родительском доме – три акта семейной драмы. Встреча сопровождается бурными объяснениями. Все трое по очереди ведут рассказ от первого лица, вспоминают – по-разному – общее прошлое, перекидываются цитатами и мемами из любимых фильмов и песен, ссорятся, мирятся, признаются в давних грехах. Поль попадает под перекрестный огонь упреков: он черпает сюжеты своих фильмов в истории семьи, нанося глубокие раны близким. В стычках выплескиваются затаенные обиды, жизнь и любовь каждого подвергаются пересмотру.Оливье Адан – популярный романист, сценарист и драматург, лауреат престижных премий, в том числе Гонкуровской за новеллу. Многие его книги экранизированы. “Под розами” – первая публикация знаменитого французского автора на русском языке.