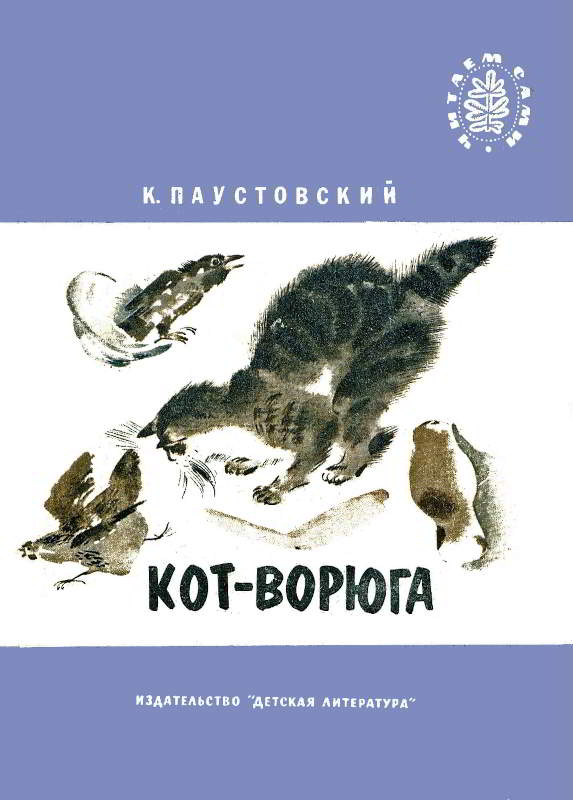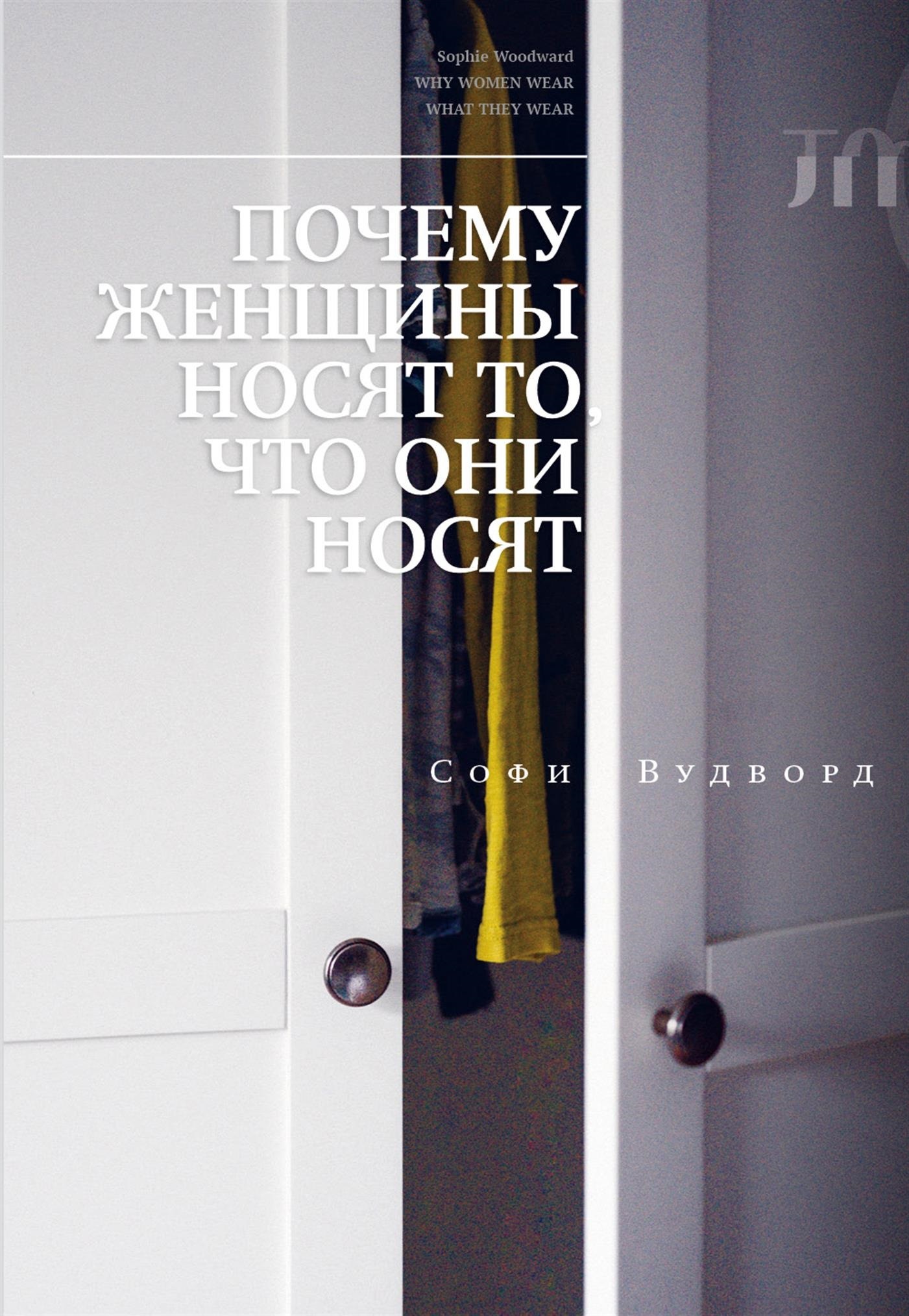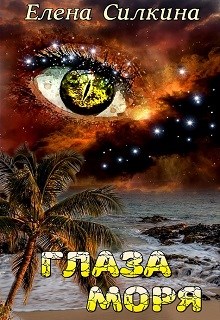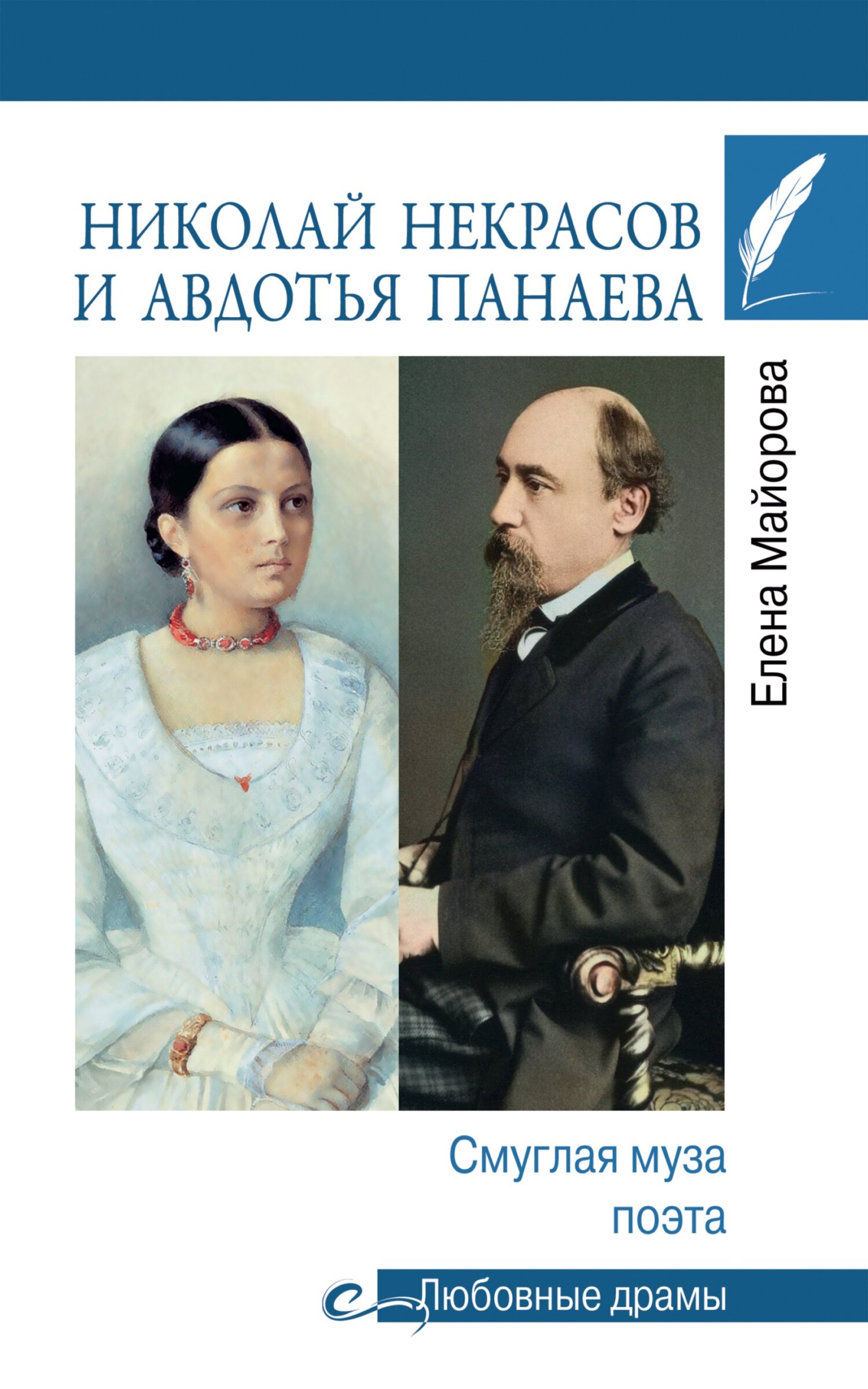Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Природа всегда была в центре творчества Паустовского – влюбленного в окружающий мир путешественника. Именно природе и ее взаимоотношениям с людьми посвящена повесть «Кара-Бугаз», историю создания которой Паустовский так увлекательно рассказал в «Золотой розе». На первый взгляд, совершенно прозаичная тема – разработка залежей соли в пустынном заливе Каспия – раскрывается с множества совершенно разных сторон. Самоотверженность русских офицеров и ученых, безлюдные берега, наводящие суеверный ужас на моряков и кочевников, – все это сплетается воедино под пером мастера. В сборник также вошли повести: «Колхида», «Теория капитана Гернета» и «Озерный фронт».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Константин Георгиевич Паустовский»: