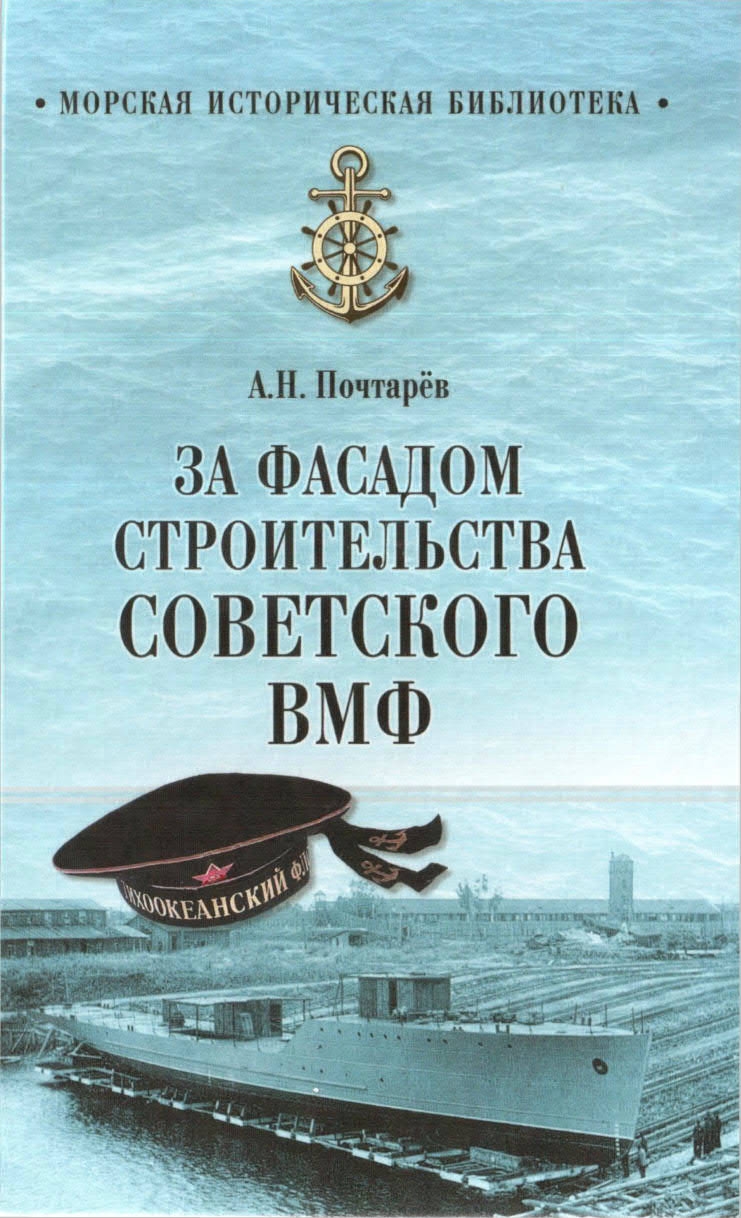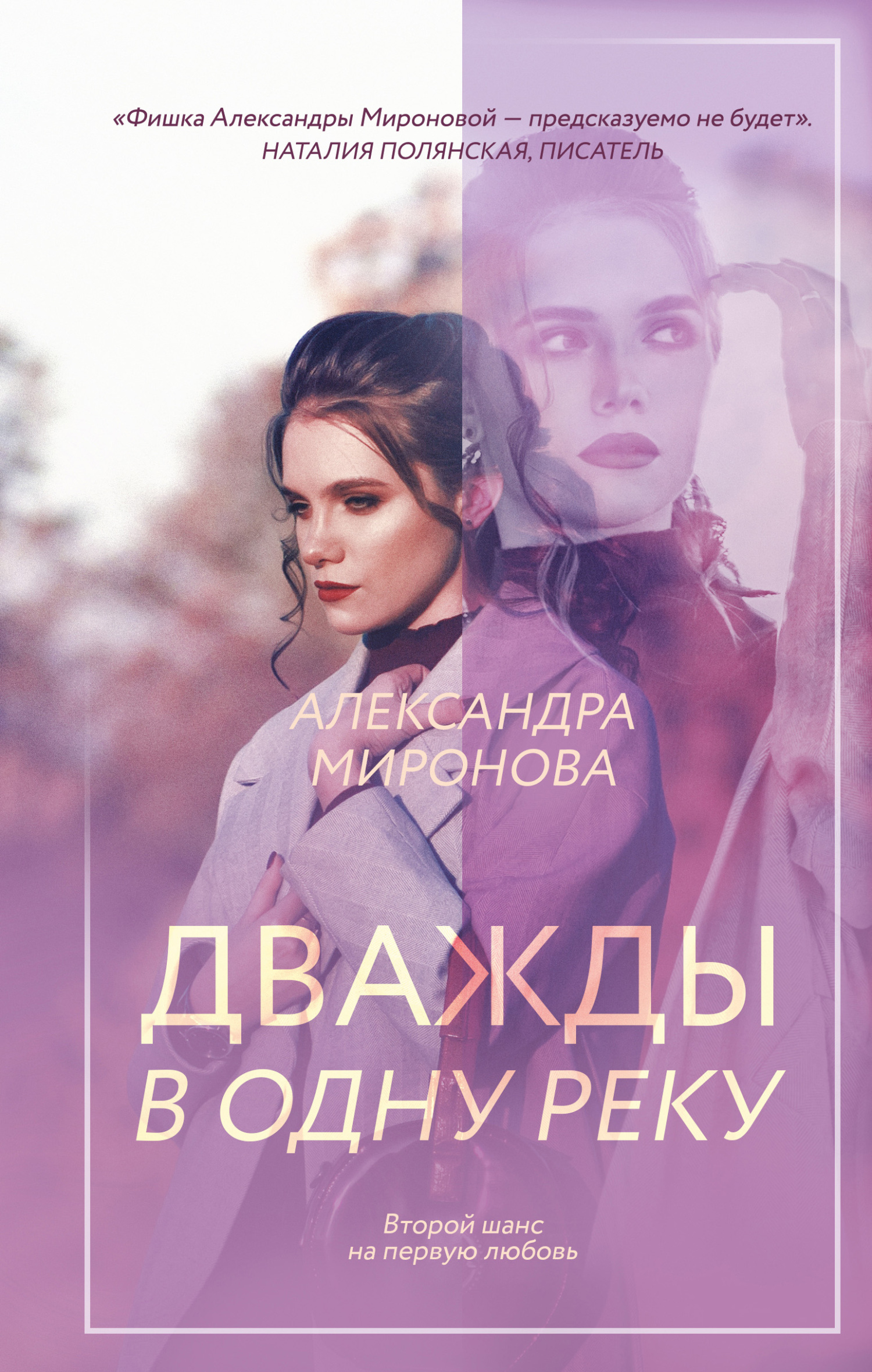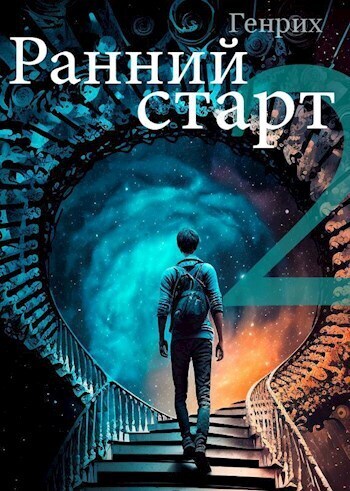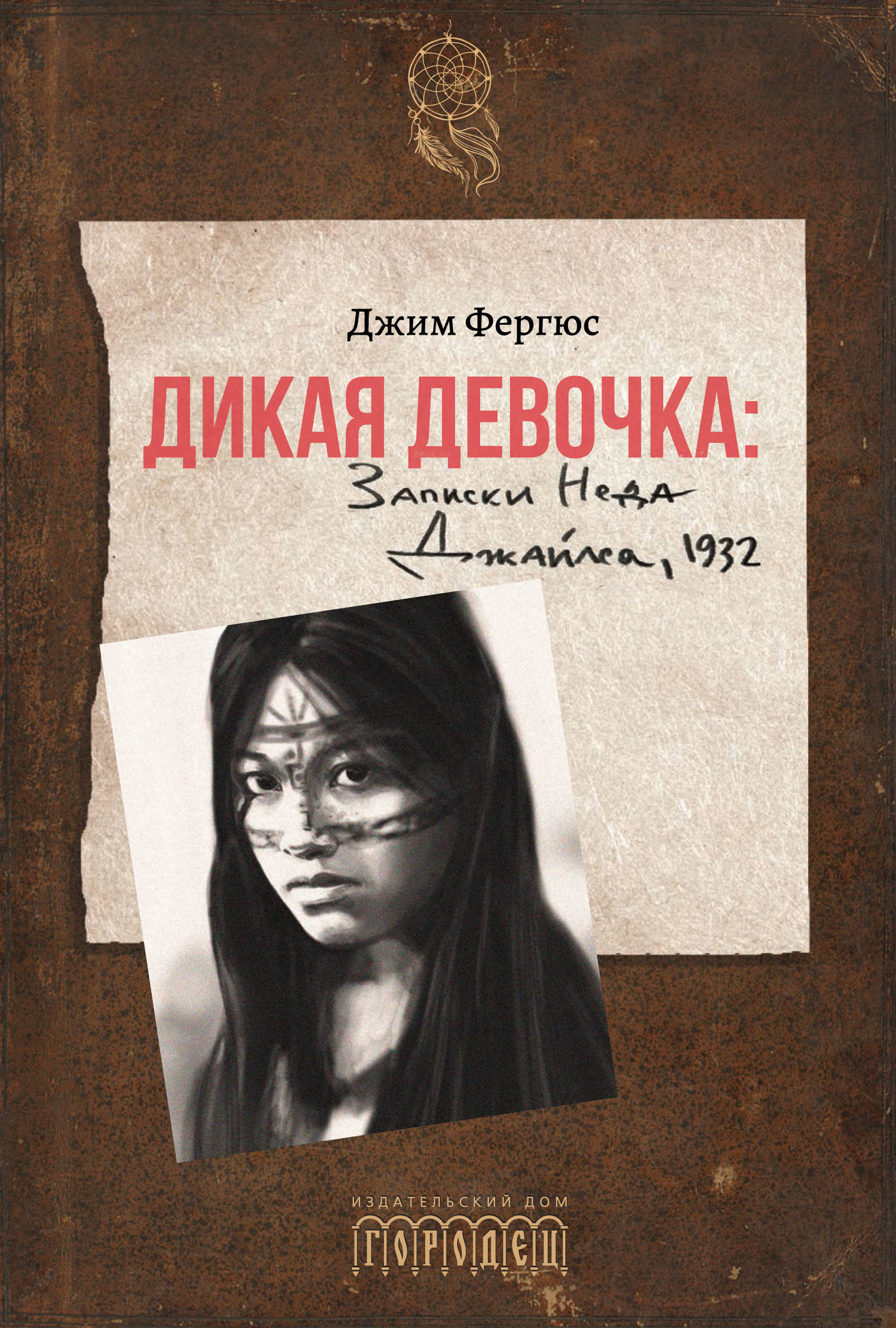Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Первая публикация чудом сохранившихся мемуаров талантливого российского архитектора и строителя Ивана Ивановича Рерберга, знаменитого созданием легендарного Центрального телеграфа и Киевского вокзала в Москве. Воспоминания Рерберга – прекрасный образец литературного стиля конца XIX – начала XX века и ценный источник по истории российской культуры. Уникальные свидетельства о личном участии автора в работе и консультациях по проектам Музея изобразительных искусств на Волхонке, мавзолея Ленина, Северного страхового общества на Ильинке и других памятников архитектуры. Рассказы о встречах с известными современниками.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Иванович Рерберг»: