Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В биографической повести известного американского писателя Ирвинга Стоуна «Жажда жизни» (1934) увлекательно рассказывается о жизни и творчестве крупнейшего французского художника, голландца по происхождению, Винсента Ван Гога. Творческую манеру автора отличает стремление к точности исторических реалий и психологических характеристик действующих лиц.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирвинг Стоун»:
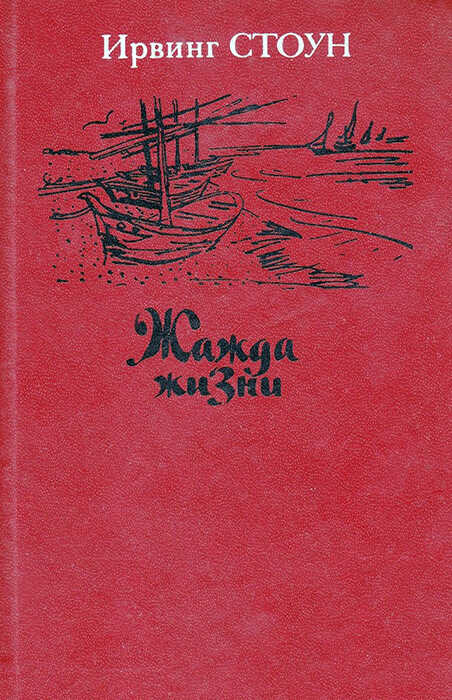

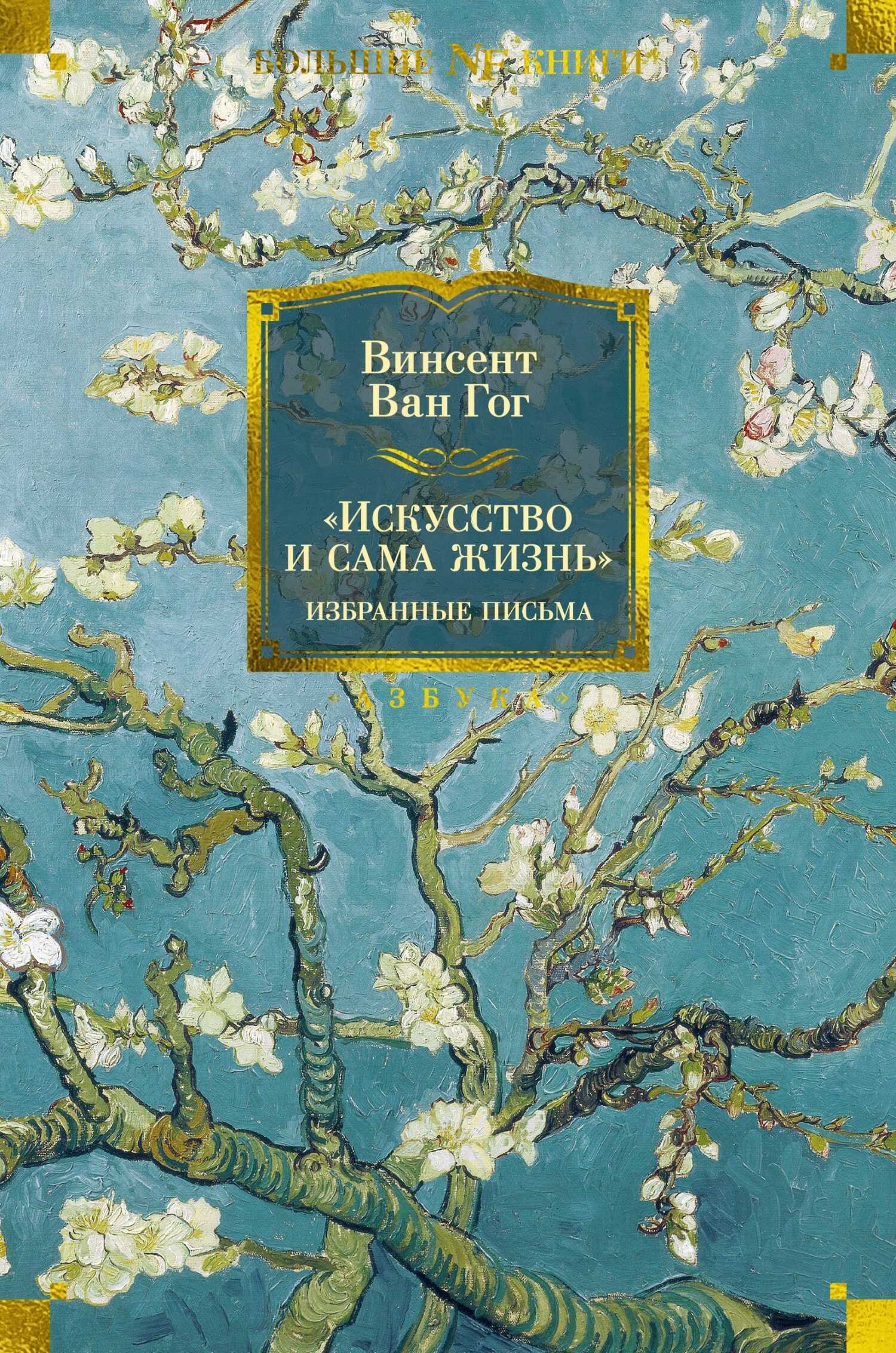
![Избранное. В 2 томах [Том 1] - Леонгард Франк](/uploads/posts/books/16119/16119.jpg)

