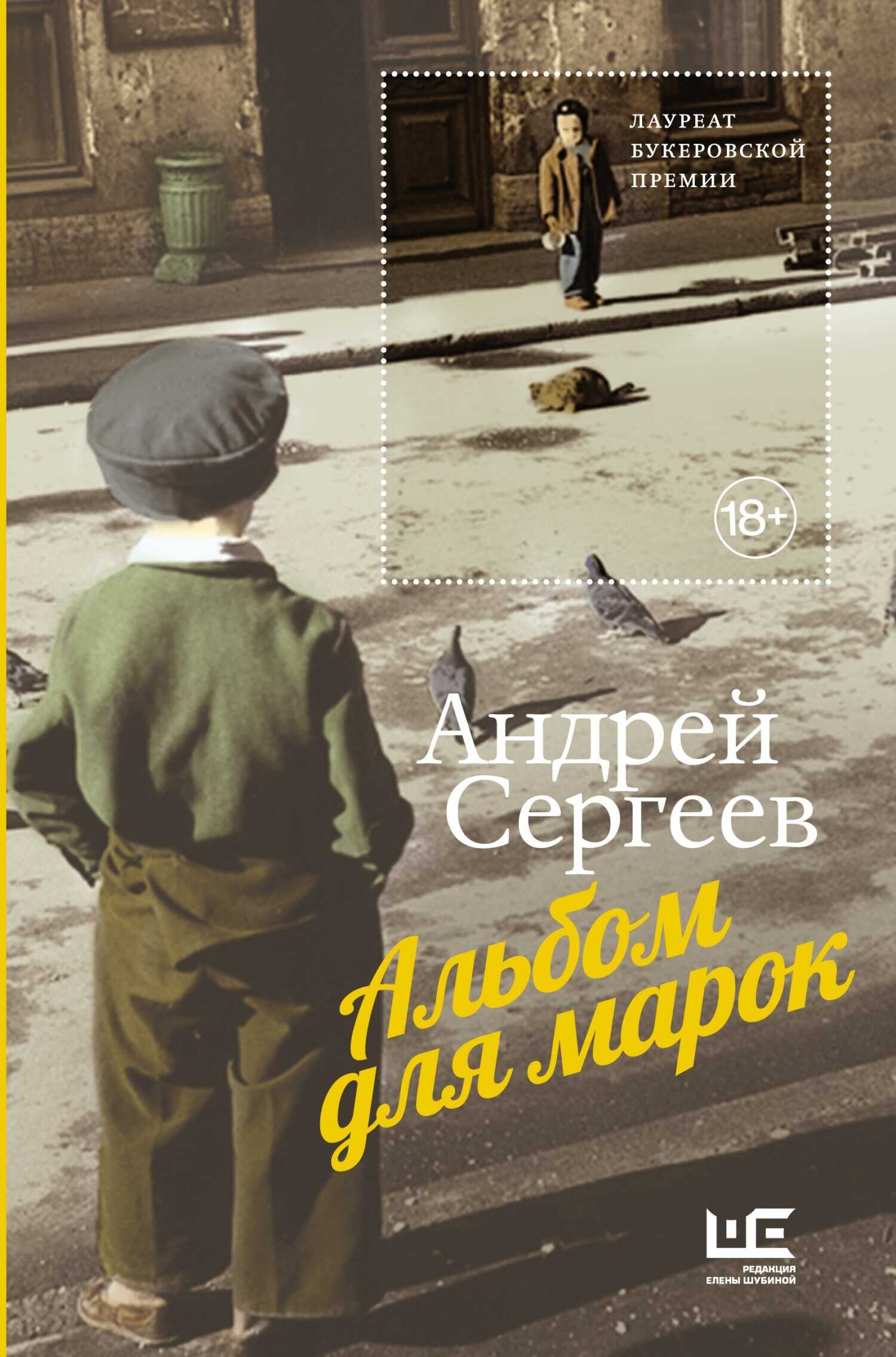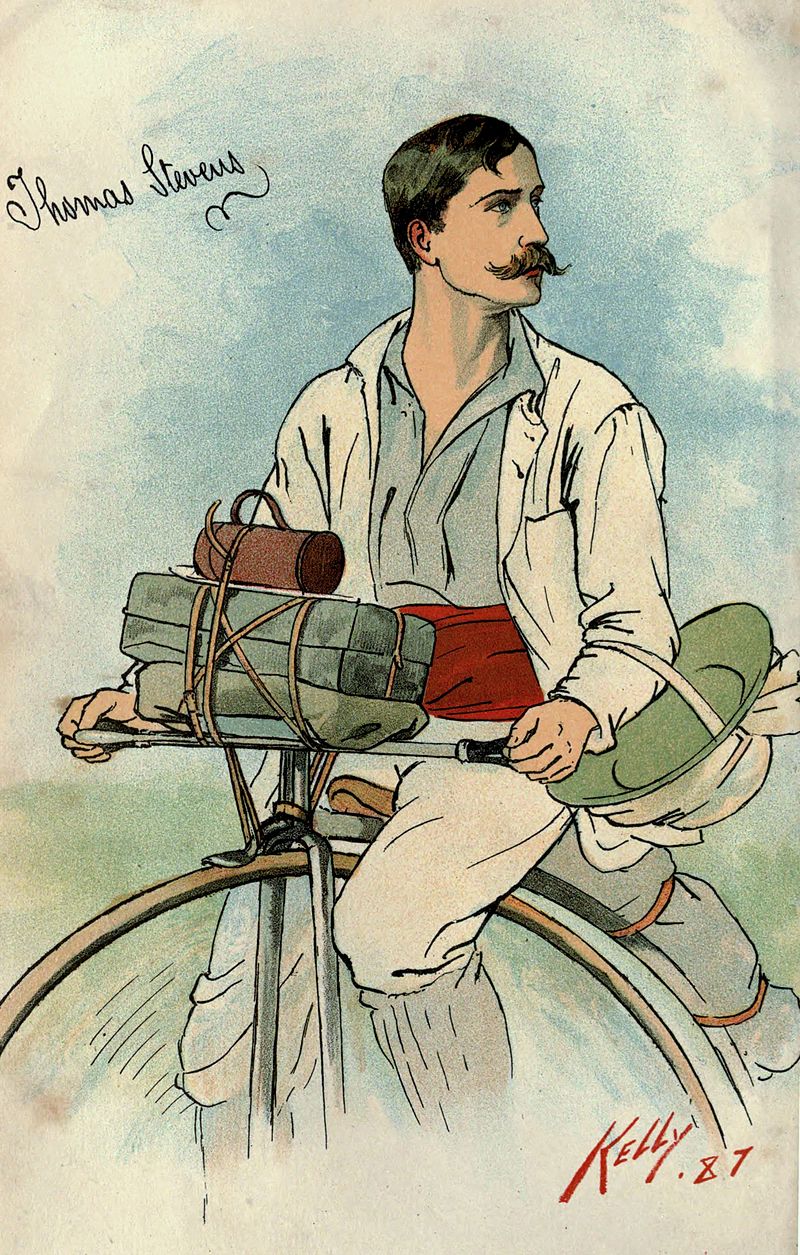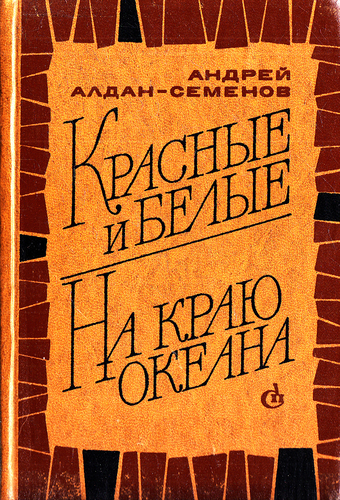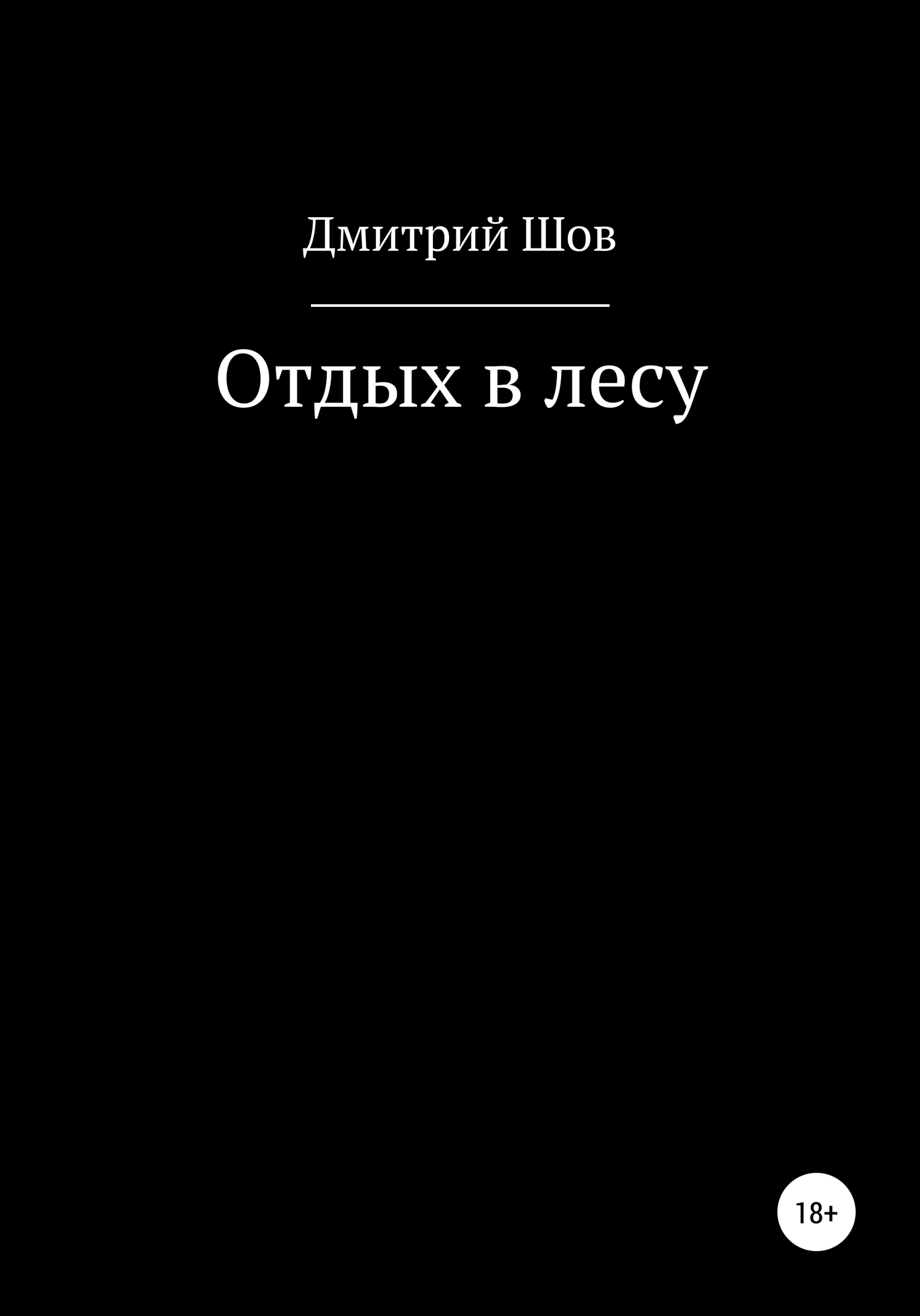Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Андрей Сергеев (1933-1998) – поэт, признанный мастер стихотворного перевода англоязычной поэзии XX века. В середине 50-х входил в “группу Черткова”, первое неподцензурное сообщество поэтов послесталинской Москвы. Знаковая фигура андеграунда 60-70-х годов.“Альбом для марок” – мозаичный роман-воспоминание, удостоенный в 1996 году Букеровской премии, автобиографическая проза и одновременно сильное и точное изображение эпохи 30-50-х. Мемуарные “Портреты” изящны и точны – идет ли речь о малоизвестных людях, или о “персонах” – Анне Ахматовой, Николае Заболоцком, Корнее Чуковском, Иосифе Бродском, который посвятил Андрею Сергееву несколько стихотворений.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андрей Яковлевич Сергеев»: