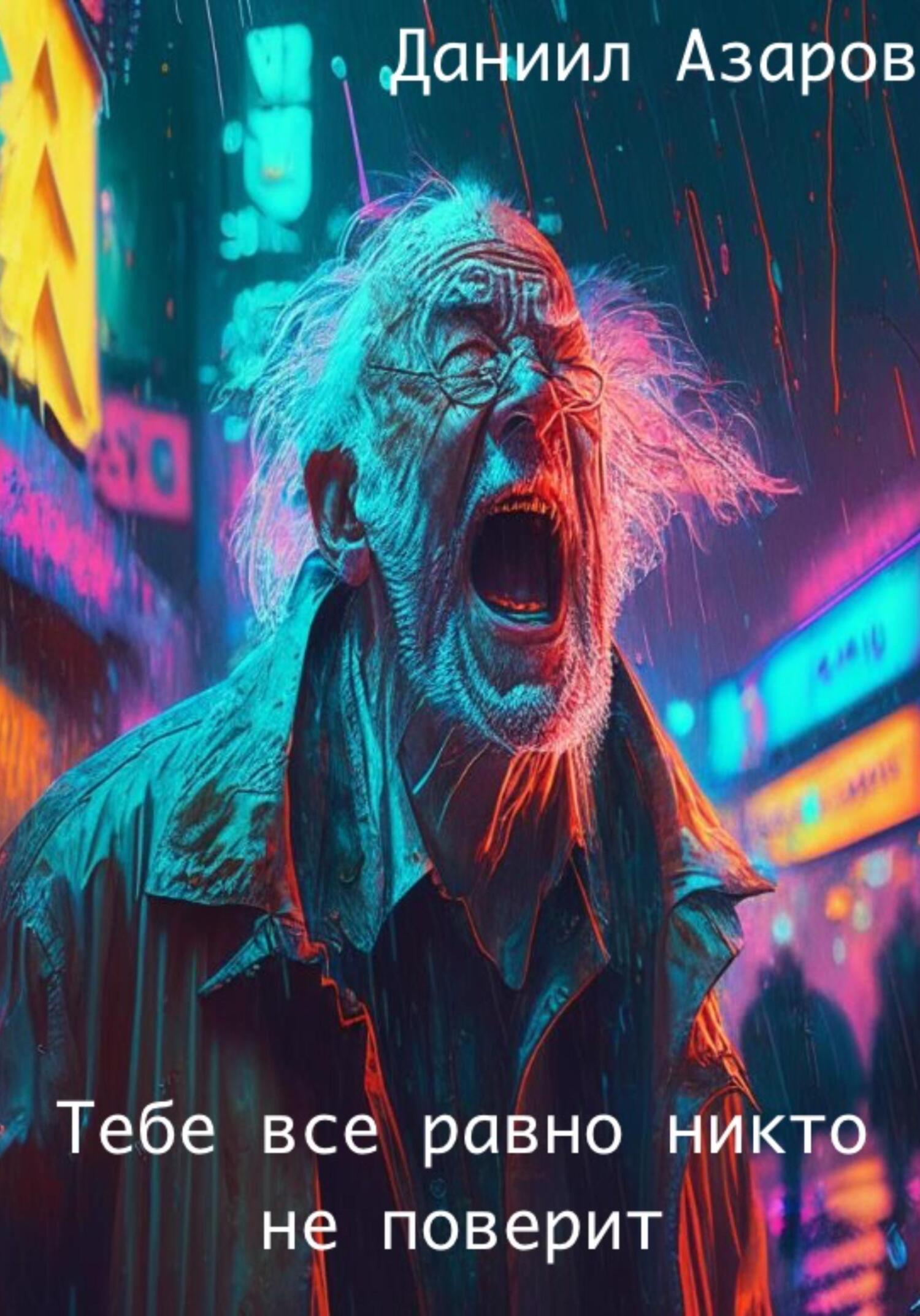Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Холодные песни звучат во мгле. В арктических льдах и беспроглядных пустотах открытого космоса. На борту корабля-призрака, посреди болотистой топи, в пустынных барханах, под землей, в затхлых стенах заброшенных квартир. И – в самом страшном месте на всем белом свете, человеческой душе! Ужас, готовый сковать льдом рассудок, въесться в кости, убаюкать и усыпить навеки, ждет повсюду. Везде, где слышны они – Холодные песни…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дмитрий Геннадьевич Костюкевич»: