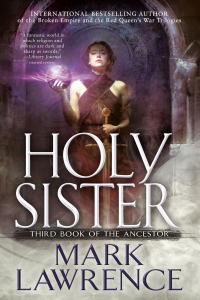Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Джейкобу Ханту восемнадцать лет. У него тяжелая форма аутизма. Юноша не способен нормально контактировать с окружающими и воспринимает все слишком буквально. При всем при том он одаренный математик и прекрасный аналитик, увлекающийся криминалистикой. С помощью нелегального полицейского сканера он узнает, где совершено очередное преступление, и подсказывает полицейским, в каком направлении вести расследование. И обычно оказывается прав.Но когда в городе происходит жестокое убийство, полиция приходит уже в дом Хантов. Детективы, не знакомые с симптомами аутизма, принимают странности поведения Джейкоба за угрызения совести и делают его главным подозреваемым. Для матери Джейкоба – это очередное свидетельство нетерпимости общества, а для его младшего брата – еще одно напоминание о ненормальной ситуации в семье из-за болезни Джейкоба.И тут возникает вопрос: мог ли Джейкоб совершить убийство?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Джоди Пиколт»: