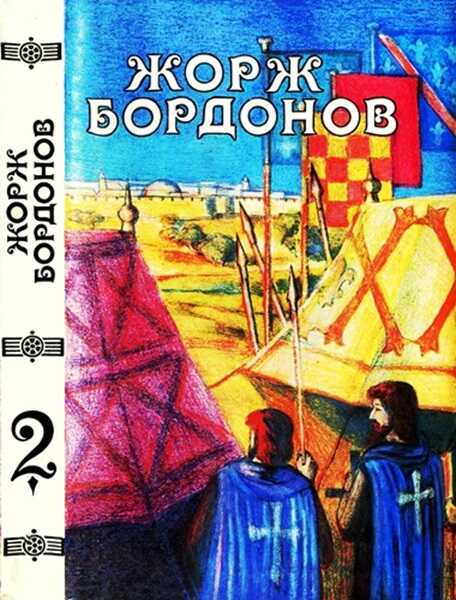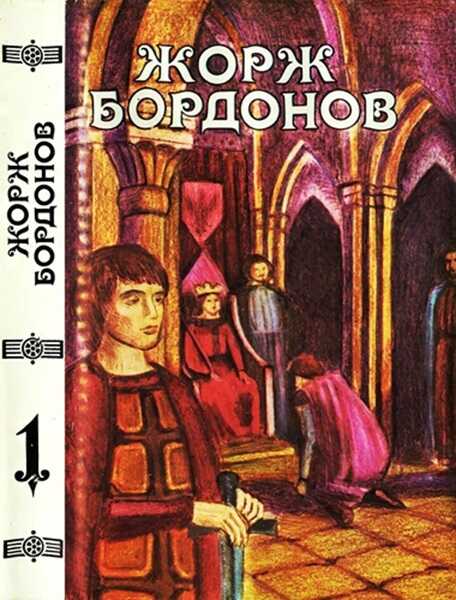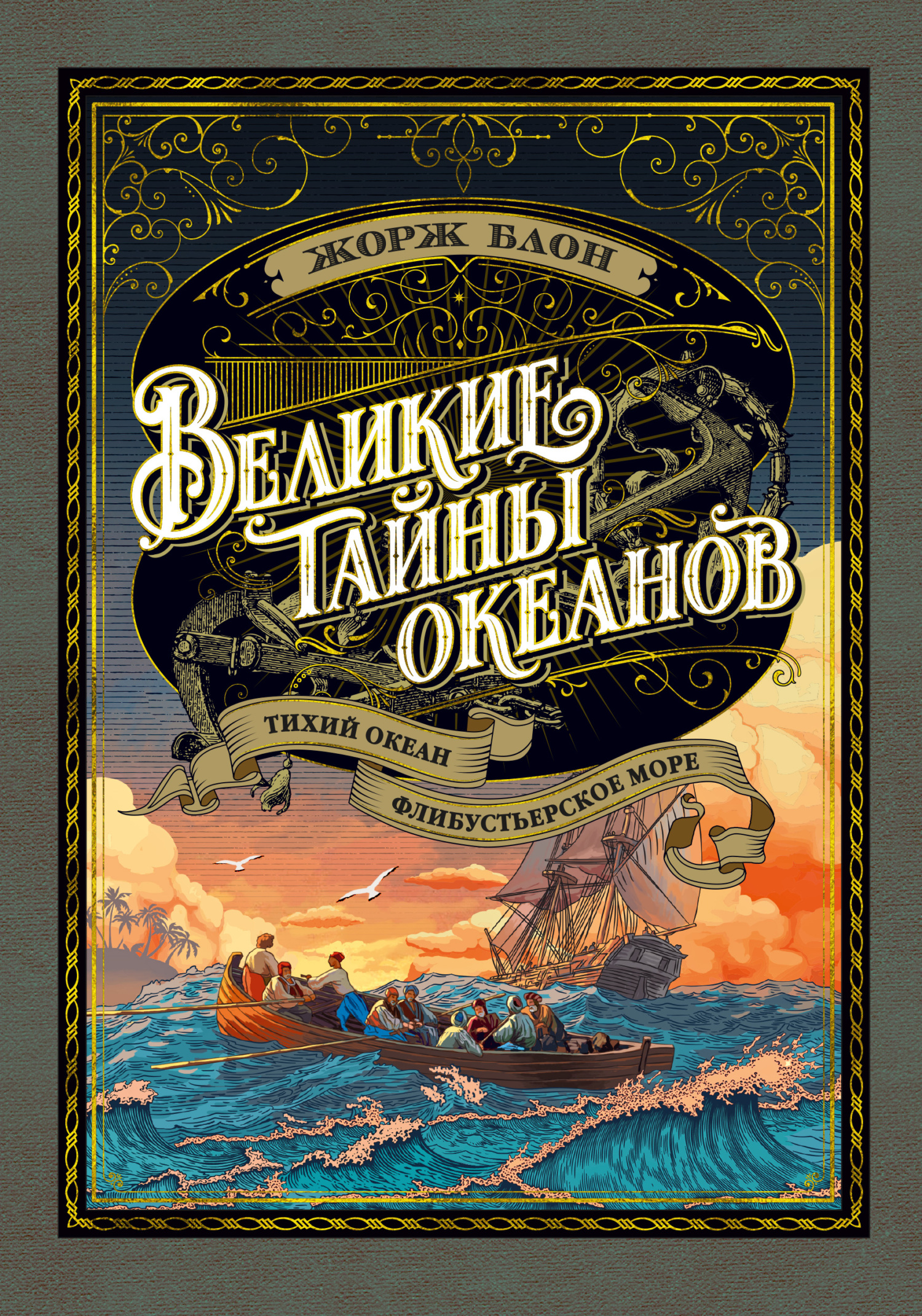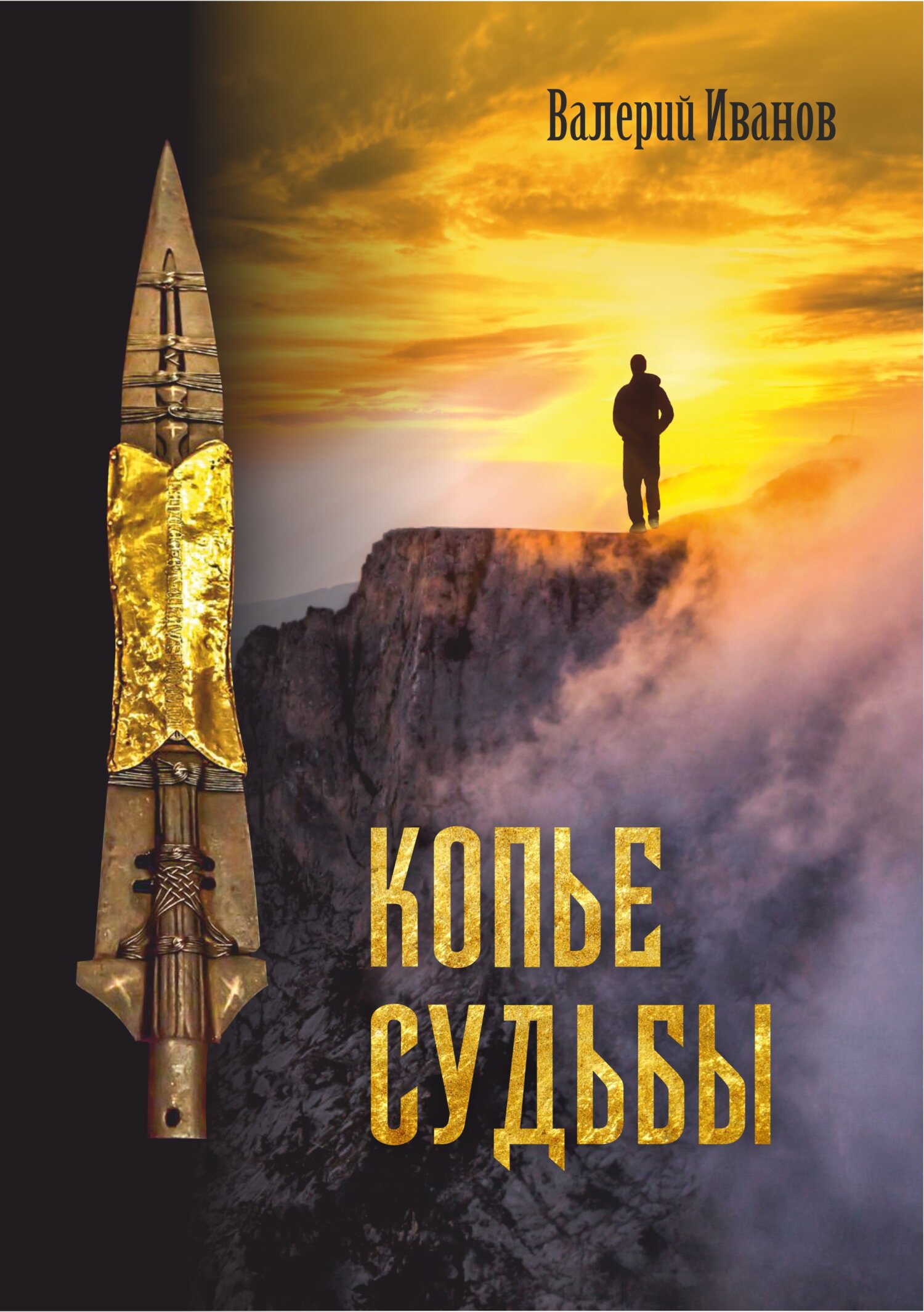Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Во второй том избранных произведений Ж. Бордонова вошли романы «Копья Иерусалима» и «Реквием по Жилю де Рэ». Действие первого из них происходит в XII веке. В центре повествования — трагическая любовь юного прокаженного короля Иерусалима Бодуэна IV и дочери небогатого французского дворянина Жанны на фоне сражений франкских полководцев с войсками Саладина. Второй роман, включенный в том, — попытка психологического портрета одной из самых зловещих фигур истории XV века — Синей Бороды.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Жорж Бордонов»: