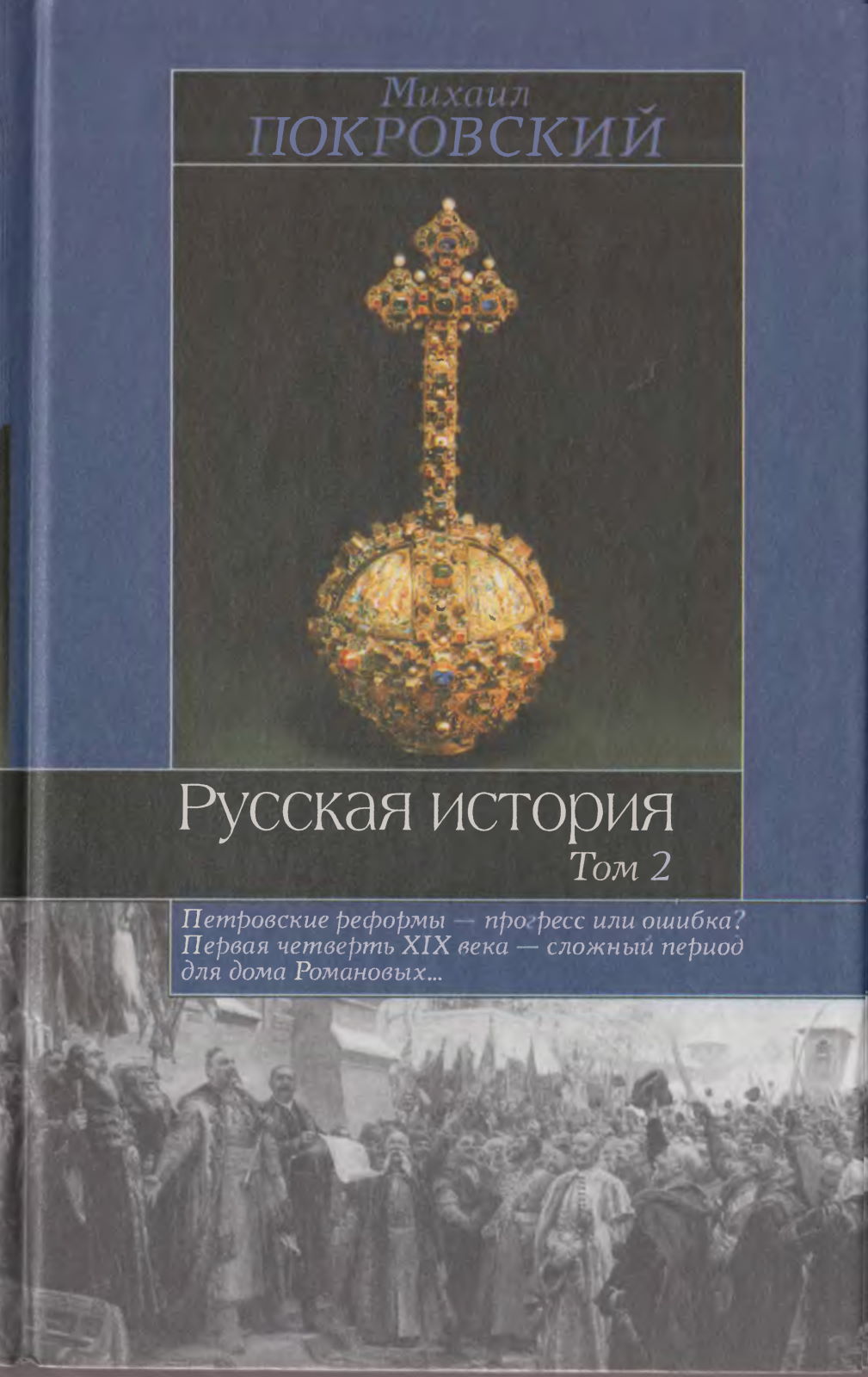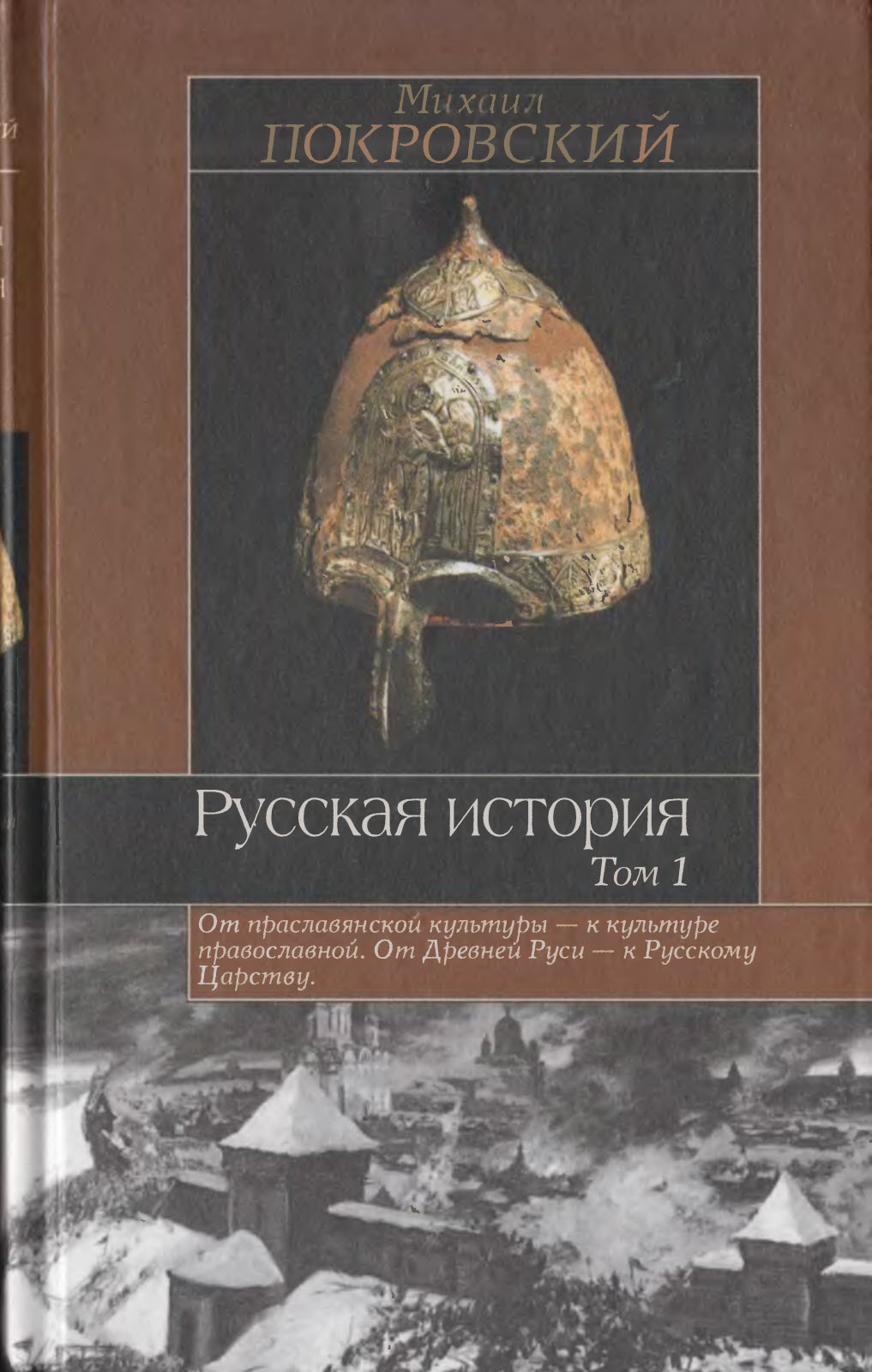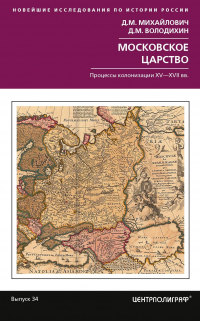Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перед вами — один из самых монументальных научных трудов в мировой истории и, вне всякого сомнения, самый капитальный из классических трудов по истории России. «Русская история» М. Н. Покровского — не только поистине уникальная попытка систематизации прошлого России с древнейших, почти мифологических, времен и до конца XIX столетия, но и не менее интересная попытка оригинального осмысления былых эпох — во всем их многообразии и своеобразии. Это— книга, о которой совершенно справедливо говорилось: «Можно с ней не соглашаться, но нельзя ее обойти». Книга, по-новому освещающая самые темные, самые туманные моменты истории нашей страны…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Николаевич Покровский»: