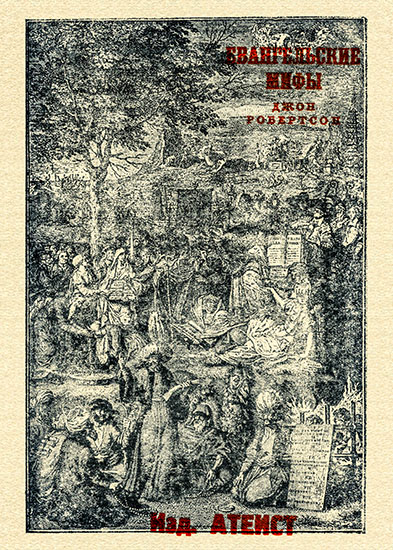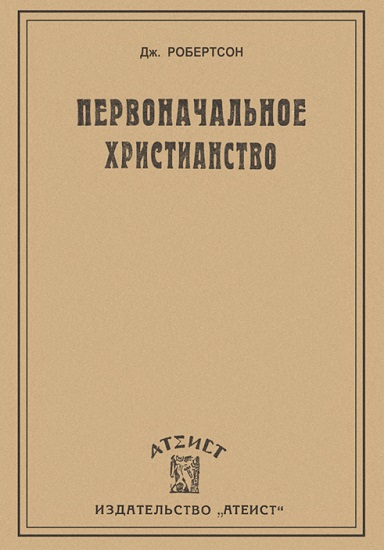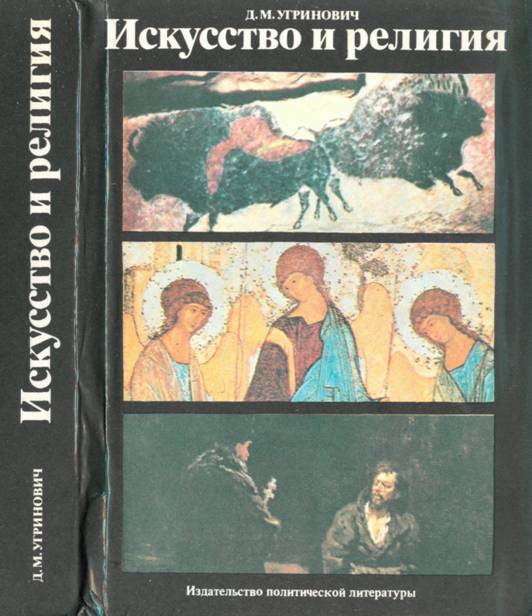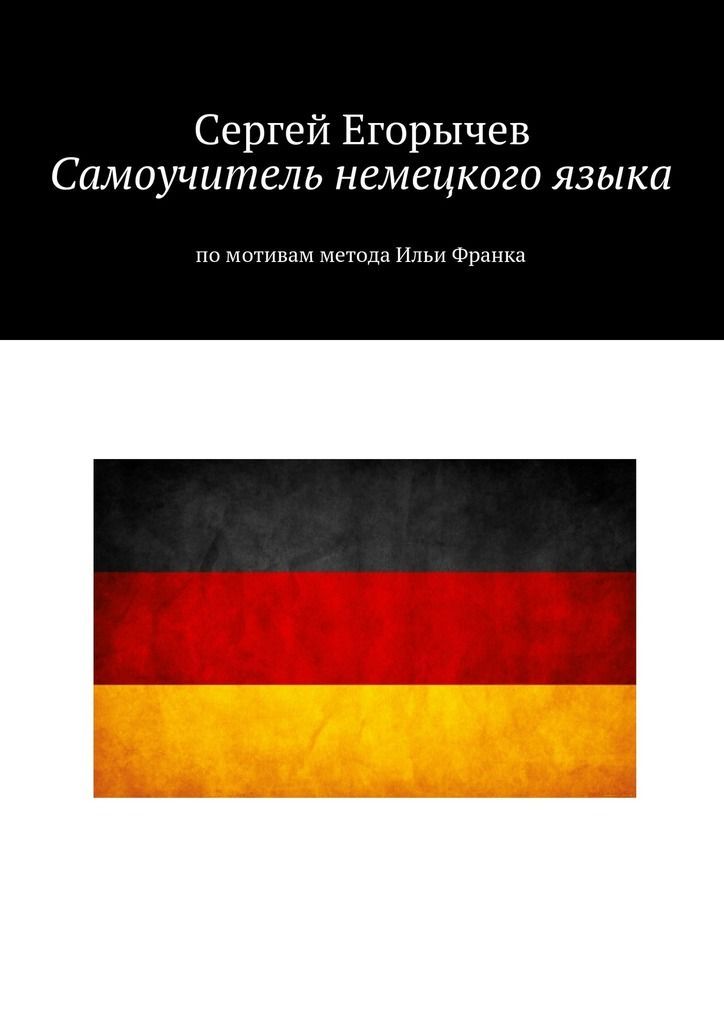Шрифт:
Закладка:
Констебль Джон Маккиннон Робертсон (14 ноября 1856 — 5 января 1933) — плодовитый шотландский журналист, сторонник рационализма и секуляризма, член парламента от либеральной партии Тайнсайд с 1906 по 1918 год. Робертсон был сторонником теории мифа о Христе и в нескольких книгах утверждал, что Иисус не был исторической личностью, а был выдумкой еврейского мессианского культа Иисуса Навина первого века, которого он идентифицирует как солнечное божество. По мнению Робертсона, религиозные группы изобретают новых богов, чтобы соответствовать потребностям общества того времени. Робертсон утверждал, что солнечному божеству, символизируемому агнцем и баранчиком, долгое время поклонялся израильский культ Иисуса Навина и что этот культ затем изобрел новую мессианскую фигуру, Иисуса из Назарета. Робертсон утверждал, что возможным источником христианского мифа могла быть талмудическая история казненного Иисуса Пандеры, которая датируется 100 годом до н.э. Он писал, что возможными источниками были: потенциальный мессия, который проповедовал «политическую доктрину, подрывающую римское правление, и тем самым встретил свою смерть»; и «галилейский целитель веры с местной репутацией, который мог быть убит в качестве человеческой жертвы во время какого-то общественного беспорядка». Робертсон считал послания Павла самыми ранними из сохранившихся христианских писаний, но рассматривал их в первую очередь как касающиеся теологии и морали, а не исторических деталей: «Более ранние части посланий Павла не свидетельствуют о каких-либо сведениях о биографии Иезуита или о каком-либо иезуитском учении — обстоятельство, которое наводит на мысль, что Иисус Павла гораздо более удален от дней Павла, чем допускают летописи». Робертсон рассматривал упоминания о двенадцати апостолах и учреждении Евхаристии как истории, которые, должно быть, появились позже среди верующих язычников, обращенных еврейскими евангелистами, такими как Павел.