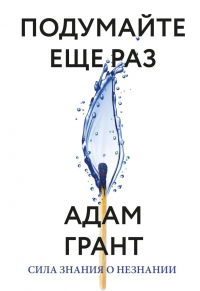Шрифт:
Закладка:
Северо-Запад – это экспериментальный роман Зэди Смит, одной из важнейших английских писательниц нашего времени. Это книга о том, как город может влиять на судьбы своих обитателей и как обитатели могут влиять на город.
Главные герои книги – Ли, Натали, Феликс и Натан, четверо друзей из неблагополучного района Лондона под названием Колдвелл. Они – представители разных социальных слоев, рас и культур, которые пытаются найти свое место в жизни. Они – жертвы и свидетели нестабильности, бедности и упадка современного мегаполиса. Они – те, кто ищет себя, свою идентичность, привязанность и мечту.
Но их ждут не только успехи и признание, но и трудности и опасности. На них влияют случайные встречи на шумных улицах Лондона, которые могут изменить их жизнь к лучшему или к худшему. На них давят законы и армия короля Аргента, который правит целой страной. На них подстерегают не только люди, но и ангелы, которые считают их врагами света.
Они не знают, что их ждут не только приключения и испытания, но и тайны и загадки, а также самое большое чудо – любовь.
Северо-Запад – это книга о том, как человек может преодолеть все преграды на пути к своей цели и как любовь может спасти даже самого потерянного. Это книга о том, как город может изменить человека и как человек может изменить город. Это книга о том, как современность может дать прошлое и как прошлое может дать современность. Она заинтересует вас своим реализмом, динамикой и интересными персонажами. Вы сможете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com